Проблема традиций и новаций в художественной жизни России в журнальной публицистике к. XIX – н. XX вв. (модернистское направление)
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1.
Полемика по эстетическим вопросам в русской культурной среде первой половины
90-х гг. XIX века
.1 Проблема
культурного наследия
.2 Социальная
роль искусства
Глава 2.
Проблема самоопределения молодых художников на примере модернистских журналов
.1 Вопрос
культурного наследия в публицистике «Мира искусства»
.2 Отношение
модернистов к европейскому искусству по материалам журнала «Мир искусства»
.3 Русская
культура глазами молодой художественной элиты («Мир искусства», «Весы», «Золотое
руно»)
Глава 3.
Журнальная публицистика о значении А.С. Пушкина в русской культуре
.1 Полемика
конца XIX - начала ХХ вв. в периодической
печати о поэзии А.С. Пушкина
.2 Проблема
вины в гибели А.С. Пушкина в рассуждениях представителей интеллигенции конца XIX - начала ХХ века
Заключение
Список
использованной литературы и источников
Приложение 1.
Информация о культурных деятелях, затронутых в исследовании
Приложение 2.
Портреты главных деятелей «Мира искусства» и образцы оформления журнала «Мир
искусства»
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы
На рубеже XIX-XX веков русская культура находилась в
состоянии духовного упадка, позднее названное в исследовательской литературе
«декадансом»: эпоха великой литературы, живописи и музыки, казалось, окончена.
В духовной культурной жизни России начиналось время качественных перемен. Это
было связано со сменой поколения в художественной интеллигенции, расширением
связей с европейской культурой, в которой так же происходили неоднозначные и
похожие процессы. В русском искусстве начинают возникать новые течения -
сначала неоднородные и мало связанные между собой. Вместе с их появлением
возникает проблема - как их классифицировать, как к ним относиться. Что это -
следствие упадка или же новое возрождение, ведущее к духовному развитию русской
культуры? Новое поколение по-новому отнеслось к традициям как русской, так и
европейской культуры. Новые взгляды новых направлений стали достоянием
теоретической проблематики с точки зрения эстетики.
В последнее время в культурной жизни России возникла схожая ситуация. В
прессе, можно обнаружить указания на то, что сегодня в русском искусстве
наступил кризис, ощутимый простой, который тянется уже некоторое время и выхода
из него не предвидится. Сегодня так же можно заметить возрастающее значение
культурных связей России и Европы: зимой 2006 года во Франции прошла выставка
русского искусства, посещенная главами двух государств; в январе в Лондоне и в
Москве состоялась культурная акция «Неделя русского и английского искусства».
Начало же этому было положено в первые годы XX века С.П. Дягилевым и молодыми модернистами художественного
объединения «Мир искусства». Сегодня перед нами стоит тоже проблема выбора
верного пути, сочетание национального и глобального в культуре. Актуальность
данного исследования заключается в том, что, как правило, на рубеже веков
начинается переосмысление культуры прошлого для того, чтобы продолжать что-либо
в будущем. Так происходит сегодня, так было и в конце XIX - начале XX века. Этот рубеж веков - пик размышлений, новаторства, многообразия
духовной и культурной жизни. И сегодня нам необходимо избавиться от давления
предыдущего поколения, чтобы начинать делать что-то свое, присущее новому веку.
На наш взгляд, исследование проблемы преодоления богатого культурного наследия,
которое довлело над молодой художественной элитой, на примере модернистов,
наиболее актуально для сегодняшнего времени. Помимо этого, актуальность темы
обусловлена сегодняшним интересом к русскому искусству со стороны Запада.
В 1898 году объединение молодых художников «Мир искусства» решилось на
выпуск собственного журнала, где они могли бы выражать свои эстетические
воззрения, обосновывать важность и состоятельность нового направления и
говорить о своих вкусах в области искусства. Аналогов такому изданию в России
еще не было. Это был первый модернистский журнал, а его страницы стали
своеобразной трибуной для утверждения новых и неоднозначных позиций, которые
шли вразрез с классической эстетикой второй половины XIX века. В это время появляется новый тип русской
интеллигенции - отстраненный от политики и посвятивший себя духовно-философским
исканиям. Именно с художников-модернистов началась новая эпоха русского
искусства, и новое направление распространилось на все его сферы. Но нам
необходимо оговориться сразу - в центре нашего внимания будет находиться период
зарождения и становление модернизма, это так называемый «начальный» период. Мы
берем для рассмотрения, прежде всего, художественный символизм и первую волну
литературных символистов - З. Гиппиус, Д. Мережковского, Н. Минского. Расцвет
литературного символизма, с его яркими представителями - А. Белым, В. Брюсовым,
А. Блоком, - остается за гранью нашего исследования.
Период конца XIX - начала XX века ознаменовано таким явлением,
как столкновение двух поколений русской интеллигенции, выразившее своеобразный
конфликт «отцов и детей». Представители предшествующего модернистам поколения
отказывалось признавать новое направление - ни как своих наследников, ни как
новое явление в русском искусстве. Они попросту не представляли, как к ним
относиться и как их воспринимать. Следствием этих сомнений и исканий была
полемика на страницах периодической печати. Полем боя двух враждующих лагерей
стало искусство.
Главной проблемой, с которой столкнулся русский символизм, была проблема
соотношения традиций и новаций в сфере искусства. Этот вопрос представляется
нам наиболее важным в исследовании нового направления. Молодые мирискусники,
которые в дальнейшем превратились в непревзойденных критиков, культурных
деятелей и известных живописцев, на страницах своего журнала проявили себя как
духовные искатели. Основные теоретические аспекты модернизма и первые шаги на
новом поприще были сделаны именно ими, и тем самым были заложены новые
традиции, по которым после них существовали художественные журналы. Проблема
традиций и новаций в нашем понимании тесно связана с проблемой самоопределения
нового направления. Молодые модернисты не только открывали новые горизонты в
русском искусстве, но и обращались к культурному прошлому России и Европы.
Более того, можно смело утверждать, что они дали вторую жизнь художественным
творениям минувших веков, они позволили себе новую интерпретацию прошлого, дали
новое понимание национального искусства. В каком-то плане они достраивали в
своем творчестве старое искусство. За внешним отрицанием прежних тенденций в
искусстве символисты внутренне скрывали свою верность культурному прошлому,
являясь настоящими адептами старого искусства. В определенном плане это
действительно был духовный ренессанс (как часто обозначают исследователи этот
период), потому что модернисты позволили себе вернуться ко многим тенденциям и
темам эпохи романтизма, придерживаясь принципа «чистого искусства».
Проблема соотношения традиций и новаций пришлась на время 90-х годов XIX века неспроста. В этот исторический
период времени шло отрицание утилитаристской эстетики, которая сформировалась в
60-е годы. Особенность этой полемики в том, что через рассматриваемые ими
эстетические проблемы велась речь о социальных функциях, о социальной роли
искусства. Они затронули, по сути, тему социологии культуры. При этом
формирование вкусов и взглядов мирискусников происходило постепенно, на
страницах собственного журнала, что позволяет нам проследить картину
складывание теории русского модернизма. В нашем исследовании мы намерены
заняться проблемой соотношения старого и нового в поисках символистов, которая
обозначилась в ходе издания журнала и выразившееся в полемики с лучшими
публицистами того времени.
Объектом нашего исследования является периодическая печать модернистского
направления - прежде всего, это журналы «Мир искусства», «Весы», «Золотое
руно».
Предмет исследования - проблемы отношения к традициям, новациям, и
утверждение своих взглядов, которые выражали новые направления в
художественно-аналитическом, публицистическом и информационном жанрах.
Хронологические рамки: 90-е годы XIX - 10-е годы XX вв. Хронологические рамки были определены следующим образом. В 90-е годы
XIX века началась полемика по вопросам
искусства, начиная с проблемы культурного наследия, доставшегося молодому
направлению от «Золотого века» русской культуры. В 1910-е гг. XX века заканчивается издание
модернистских журналов первой волны, в которых были высказаны все
основополагающие моменты теории модернизма.
Территориальные рамки исследования: прежде всего, Санкт-Петербург, ибо
журналы «Мир искусства», «Весы» и «Вестник Европы» используемые нами в
дипломной работе, выходили как раз в этом городе; кроме того Санкт-Петербург
был в то время столицей Российской империи и интеллигенция, и основные
художественные салоны существовали именно там. Помимо этого Петербург восхищал
модернистов, и они уделяли ему много внимания в своих статьях. Во-вторых,
Москва. Здесь выходил журнал «Золотое руно», так же используемый нами в
качестве источника, кроме того, в Москве находился ряд культурных объектов, о
которых писали модернисты и несколько художественных объединений,
симпатизирующих новому направлению.
Степень изученности проблемы
В отечественной историографии тема модернистского направления изучена
достаточно основательно. Тема пользовалась вниманием, прежде всего, в среде
историков литературы, искусствоведов, работ написано много, квалифицированно и
интересно. Но мы не обнаружили работ, в которых модернизм рассматривался бы в
том ракурсе, который поставили мы в нашем исследовании - рассматривать данное
направление, как систему, все элементы которого тесно связаны друг с другом, и
при этом проводить сравнение новых веяний в русской культуре с предыдущими
направлениями. Разумеется, некоторые аспекты проблемы встречаются в отдельных
исследованиях, как существуют и работы в той ли иной мере касающиеся ее.
Прежде всего, выделим работы общего характера, характеризующие
периодическую печать и ситуацию в русском искусстве этого времени. К таковым следует
отнести коллективную работу «Литературный процесс и русская журналистика конца XIX - начала XX века (1890 - 1904)». М., 1982, где несколько журналов, в том
числе модернистские, были рассмотрены как раз с точки зрения формирования
эстетических позиций. Так же стоит отметить две работы Сарабьянова Д.В. - автор
выделил основные направления, возникшие в конце XIX - начала XX века и охарактеризовал, в том числе, печатные органы того времени; здесь
же приведем работу Стернина Г.Ю. «Художественная жизнь России на рубеже XIX - начала XX веков». М., 1970. Стернин сумел показать обстановку, царящую
в среде художественной интеллигенции, и уделил большое внимание модернистским
журналам. Во всех названных работах авторы использовали обширный круг
источников, среди которых главное место занимают материалы периодической
печати. Недостаток работ - их обобщенный характер.
Главными в нашем исследовании могут считаться работы о «Мире искусства».
Здесь следует оговориться, что имеется в виду, прежде всего, художественное объединение
«Мир искусства». Самым обстоятельным здесь может считаться исследование
Лапшиной Н.П. «“Мир искусства”. Очерки истории и творческой практики». М.,
1977. Автор проделала большую работу, проследив историю объединения «Мир
искусства» с момента его основания и заканчивая его повторным роспуском в 1924
году. Лапшина использовала обширный круг источников, уделив большое внимание
воспоминаниям мирискусников. Для нас главное значение ее работы состоит в
подробнейшей главе, посвященной журналу «Мир искусства» - автор упомянула об
основных интересах мирискусников и подчеркнула значение этого новаторского
журнала для всей русской журналистики. Лапшина так же выпустила статью «Мир
искусства», где выразила основные идеи своей монографии.
Вторым по значимости исследованием о «Мире искусства» назовем работу В.Н.
Петрова «Мир искусства» - имеется ввиду его статья. Но немало примечателен и
альбом с одноименным названием, снабженный его комментариями. Петров рассмотрел
объединение «Мир искусства», его особенность и интересы, и представителей
объединения в частности - здесь, однако, можно заметить искусствоведческий
характер его работы, так как представители объединения интересовали автора
только с точки зрения их живописи, техники рисунка и т.п. Некоторую информацию о
журнале и его содержании можно обнаружить в книге А.П. Гусаровой.
Эти работы объединяют несколько схожих аспектов. Вот они:
- в центре внимания находиться художественное объединение «Мир
искусства» и его история - с момента его основания (середина 90-х годов XIX века) и заканчивая его окончательным
распадом в 1924 году;
- исследования в основном проведены искусствоведами, и главной
своей задачей авторы видели в том, чтобы показать художественную сторону
деятельности объединения. То есть исследователей больше привлекали художники и
их творчество, нежели их эстетические взгляды;
журналу «Мир искусства» во всех этих работах уделено немного
места - он рассматривался в контексте объединения и лишь для иллюстрации общих
интересов мирискусников, но ни разу в качестве их своеобразной программы, как
намерены рассматривать его мы;
ни в одной из работ нет указаний на резкое неприятие нового
направления при его появлении, только Н.П. Лапшина пишет о первой выставке
мирискусников, которая подверглась критике со стороны предыдущего направления и
о полемике модернистов с И. Репиным по художественным вопросам.
В контексте нашей темы примечательны работы, посвященные теоретической
стороны символизма. Здесь можно указать работу Воскресенской М.А., которая
важна своим глубоким анализом причин возникновения такого явления, как
символизм в мировой культуре. Автор подробнейшим образом рассмотрела
духовно-идеологическую сторону русского символизма. В целом работа больше
акцентирует внимание на литературной составляющей нового направления, но с
точки зрения теории символизма работа очень важна для нашего исследования.
В эту же группу на наш взгляд, следует отнести замечательную работу Аврил
Пайман «История русского символизма» (М., 2000). Это подробное исследование
посвящено русскому модернизму, начиная с первейших его представителей и
заканчивая 1910 годом, как временем спада символистических пристрастий в
искусстве. Работа затрагивает и «Мир искусства» с подробной остановкой на
«журнальном» периоде объединения, присутствует и анализ неоднозначного
отношения к символистам Вл. Соловьева. Пайман так же охарактеризовала журналы
«Весы» и «Золотое руно». Но в целом работа построена на изучении теоретических
разработок символизма, и главный недостаток исследования в его некоторой обобщенности,
из-за чего анализ некоторых важных событий периода зарождения символизма
выгладит поверхностным.
Немаловажны работы, касающиеся духовного мира русских модернистов. Этому
вопросу посвящена книга Ермиловой Е.В. «Теория и образный мир русского
символизма» (М., 1989) и работа Сарычева Е.А. «Эстетика русского модернизма.
Проблема “жизнетворчества”» (Воронеж, 1991). Обе работы представляют интерес с
точки зрения характеристики философии Вл. Соловьева, одного из главных
оппонентов и учителей модернистов. К этой же группе работ следует отнести
монографию Сарабьянова Д.В. «Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы» (М.,
1989) и статью Эткинда Е. «Единство “Серебряного века”». В первой автор пишет о
стиле «модерн» в мировой культуре, характеризует его признаки и главных
творцов. В статье Эткинд подчеркнул неразрывную связь всех направлений
символизма и убедительно обосновал это.
Ряд работ посвящен отдельным личностям. Примечателен сборник статей,
посвященный С.П. Дягилеву. Несколько работ здесь о периоде его деятельности в
объединении «Мир искусства». Эти статьи имеют узкую направленность, например
статья Щенникова Г.К. раскрывает связь эстетических воззрений мирискусников с
идеями Ф.М. Достоевского.
Борисовская Н. посвятила работу исследованию творчества Л. Бакста, одного
из участников объединения и авторов журнала «Мир искусства». Ельшевская Т.
исследовала творческий мир К. Сомова, обратившись к психологическому анализу
личности самого знаменитого из мирискусников представителя символизма в
живописи. О Владимире Соловьеве и его связи с символистами писал известный
критик и философ К. Мочульский, в работе которого можно найти подтверждение
огромного влияния философии и поэзии Соловьева на символистов второй волны.
Примечателен сборник статей «Владимир Соловьев и культура Серебряного века»,
где Соловьеву отведена роль учителя символистов и есть несколько статей,
затрагивающие некоторые проблемы нашего исследования. Очень важны для
иллюстрации предшественников модернистов - Товарищества передвижных
художественных выставок, - работы, посвященные этому направлению в русской
живописи. В этом же контексте стоит упомянуть исследования, касающиеся главного
защитника передвижников В.В. Стасова, художественного и музыкального критика
второй половины XIX века.
Отдельная глава нашей работы посвящена полемике по вопросу о значении
поэзии А.С. Пушкина в русской культуре. В отечественной историографии по этой
теме существует неимоверное количество работ. Для сравнения со взглядами
мыслителей XIX-ХХ века взглядов их потомков мы
отобрали несколько монографий, во всех них проведен значительный анализ
различных сторон деятельности поэта и его жизни. Это дает нам представление о
состоянии русской (в том числе и сибирской) пушкинистики в наши дни.
Небольшая статья Р.А. Гальцевой «По следам гения» напрямую касается
полемики в периодической печати, произошедшей в конце XIX - начале ХХ века, в которой приняли участие и
модернисты. Автор правильно расставила акценты полемики и обозначила основные
мысли, высказанные разными публицистами. В этой же связи примечательна статья
Леа Пильд, посвященная сравнению творчества представителя символизма Ф.
Сологуба с некоторыми темами творчества Пушкина.
Подводя итог историографическому обзору, можно констатировать, что, не
смотря на большое количество работ, посвященных модернизму, выделенный нами
ракурс проблемы последовательно не рассмотрен. Некоторые аспекты нашей проблемы
можно заметить в ряде работ. Но главный предмет нашего исследования -
модернистская печать, - в большинстве своем остался без внимания, и сам журнал
«Мир искусства» ни разу не стал объектом отдельного изучения. В связи с этой
характеристикой историографии мы можем следующим образом определить цель и
задачи нашего исследования.
Цель: реконструировать культурную проблему традиций и новаций при
определении нового модернистского художественного направления в культурной
жизни России.
Для этого предполагается выполнить следующие задачи:
– исследовать полемику в журнальной публицистике 90-х гг. по вопросу
соотношения новых течений с традиционно существовавшими;
– рассмотреть основные проблемы полемики, касающиеся традиций и
новаций в искусстве;
– изучить вопрос о социальной роли искусства, волновавший обе
стороны полемизирующих;
– показать эстетические воззрения модернистов на европейскую и
русскую культуру, изучить эволюцию модернизма с момента его появления и
заканчивая периодом устойчивости русского символизма;
– проследить коммуникационные способы и средства, используемые
модернистами для достижения своих целей.
Источники
Нашим основным источником является периодическая печать модернистского
направления. Прежде всего - это журнал «Мир искусства». В отделе редкой книги
ГПНТБ мы обнаружили 1899, 1900 и 1902 годы издания. Это была лишь половина из
необходимого нам материала. Мы обратились к фонду редкой книги Свердловской
областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского города
Екатеринбурга, где были найдены недостающие 1901, 1903 и 1904 годы. Таким
образом, «Мир искусства» в нашем распоряжении был в полном виде, что позволяет
воссоздать картину эстетических предпочтений модернистов. Чтобы быть наиболее
уверенными в полноте предполагаемой нами картины мы используем так же
модернистские журналы «Весы» и «Золотое руно». Они являются не главными нашими
источниками, а потому они не требовались нам в полном объеме; мы используем те
номера и годы, которые обнаружили в том же фонде Свердловской областной
библиотеки, фондах редкой книги ГПНТБ и НГОНБ.
Журнал «Мир искусства» является уникальным изданием. Это в полном смысле
слова художественный журнал. В его оформлении принимали участие молодые
живописцы, в каждом номере присутствует обширный круг иллюстраций самых разных
художников, а так же образцы прикладного искусства. С самого начала журнал
состоял из нескольких отделов - художественного (иллюстрации),
художественно-критического и художественной хроники. С 1900 года издания
появился так же литературный отдел. В художественно-критическом отделе «Мир
искусства» давал критические статьи, художественные обзоры лучших музеев России
и мира. В этом отделе присутствует особое расположение текста - он словно
перемешивался с иллюстрациями. На одну страницу порою приходилось до трех
рисунков (или репродукций известных мастеров), и порою сложно определить, то ли
текст играет главную роль, то ли иллюстрации. Отсюда идет необычное и порою
затруднительное восприятие текста - нужно воспринимать сразу и текст, и
изобразительный ряд.
В разделе художественной хроники была собственная нумерация страниц и
даже создавалась видимость журнала в журнале. С 1903 года так и случилось -
художественная хроника в конце года выходила отдельным изданием. В этом разделе
присутствует и критика, и репортажи, некрологи, литературные заметки и другие
статьи. В целом, именно на страницах художественной хроники проходили основные
дискуссии между самими мирискусниками и с их оппонентами. Литературный отдел
начался с публикации романа Д.С. Мережковского «Лев Толстой и Достоевский» и в
первое время в нем публиковались произведения литературно-философского
характера. После раскола «Мира искусства» в 1902 году с последующим выходом из
журнала группы религиозных философов во главе с четой Мережковских, в
литературном отделе произошли изменения - стали печататься теоретические статьи
поэтов-символистов - в основном, А. Белого. В целом журнал ставил своей задачей
освещение всех сторон культурной жизни, с чем он блестяще справился. Несколько
непривычным для глаза современного исследователя является старинный
елизаветинский шрифт журнала, но работать с ним можно. Главный недостаток
источника - огромный объем информации, который приходилось сортировать по
определенным темам и категориям. С «Миром искусства» в этом плане было особенно
трудно работать, потому что мы рассматривали все номера журнала, каждую статью,
за все шесть лет издания, а это около 500 статей. В целом журнал сохранился в
хорошем состоянии, но некоторые страницы отсутствуют, некоторые стерты. Это
тоже усложняло работу.
«Весы» и «Золотое руно», в целом, были продолжателями дела «Мира
искусства». «Золотое руно» был оформлен в традициях «Мира искусства» - орнамент
на страницах, графические логотипы, много иллюстраций, журнал пытались подавать
материал в том же стиле. Главным отличием было, опять же, расположение текста.
«Золотое руно» давал материал статьи сразу на русском и на французском языке -
в виде двух столбцов на одной странице. Это расположение тоже мешало
нормальному восприятию текста. «Весы» были несколько иной направленности. Это
был, прежде всего, журнал литературных символистов. В разделе хроники «Весы»
так же пытались давать обзоры с выставок и репортажи из театра, но литературная
направленность давала о себе знать во всех остальных разделах и была
преобладающей. Всего в журнале было три отдела, не считая заметок, которые
присутствовали в любом печатном органе (отдел «Стихи, рассказы, повести,
драмы», отдел «Литература» и отдел «Искусства»). Оба журнала хорошо сохранились
в плане изображения, но они довольно ветхие и буквально разваливаются в руках.
Во всех трех модернистских журналах нас интересовали, прежде всего,
публицистические статьи, где были отражены историко-философские взгляды самих
модернистов, статьи теоретического характера, где они рассуждали о символизме
как таковом, статьи иностранных авторов, которых они привлекали в качестве
подтверждения своих идей, и их ответные статьи своим оппонентам. Во вторую
очередь нас привлекали статьи, отражающие интересы мирискусников - о
художниках, о Европе.
Еще два журнала, «Вестник Европы» и «Русский вестник» не относиться,
конечно, к модернистским изданиям, а являются либеральными печатными органами.
Но мы используем их так же в качестве источника. По их материалам мы можем
увидеть взгляд полемизирующего с модернистами поколения. Из журнала мы берем
только философско-критические статьи, например, А.Ф. Кони или Н. Михайловского.
Периодическая печать - источник совершенно особого характера. При его
изучении мы можем себе представить ежедневную жизнь русской интеллигенции конца
XIX века. Особенно важно, что при
изучении журналов мы, говоря о полемике, можем восстановить ее поэтапно. Журнал
печатала статью, а тот, кто был не согласен с ее положениями, на страницах
другого журнала (или того же издания) давал свой ответ. Можно даже ощутить
эмоциональную и психологическую атмосферу полемики по этим статьям. Журнал
отличался от газеты, прежде всего, тем, что в нем главный акцент сделан не на
информации, как в газете, а на интерпретации этой информации, на рефлексии. В
нашем случае периодическая печать, представленная журналами, совершенно
незаменима как источник.
Так же в нашей работе мы пользуемся публицистикой вне журналов. Имеется
ввиду, в данном случае, опубликованные статьи из сборников работ того или иного
автора. В частности мы используем статьи Вл. Соловьева «Красота в природе» и
«Общий смысл искусства» (впервые опубликованы в журнале «Вопросы философии и
психологии» 1889, №1, и 1890, №5), «Первый шаг к положительной эстетике»
(впервые - «Вестник Европы», 1894, №1), «Судьба Пушкина» (впервые - «Вестник
Европы», 1897, №9), «Особое чествование Пушкина» (впервые - «Вестник Европы»,
1899, №7), «Против исполнительного листа» (впервые - «Вестник Европы», 1899,
№11), «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» (впервые - «Вестник Европы»,
1899, №12), «Русские символисты» (впервые - «Вестник Европы», 1894 №8, 1895,
№1, 10). Мы используем статью Л. Толстого «Что такое искусство?» (впервые -
«Вопросы философии и психологии» 1898, №1); статьи В. Розанова «Почему мы
отказываемся от “наследства 60 - 70-х годов”?» и «В чем главный недостаток
“наследства 60 - 70-х годов”?» (впервые - «Московские ведомости», 1891, №185,
192). Так же мы взяли статьи В. Стасова «Нищие духом» (впервые - «Новости и
биржевая газета», 1899, 5 января, №5), «Подворье прокаженных» («Новости и
биржевая газета», 1899,февраль, №39), «Выставки» («Новости и биржевая газета»,
1898, №27 и 55, 27 января и 24 февраля), «Шахматный ход декадентов» («Новости и
биржевая газета», 1900, 4 декабря, №336), «Наши нынешние декаденты» (впервые -
газета «Страна», 1906, 26 марта, №30), «Просветитель по части художеств»
(«Новости и биржевая газета», 1897, 7 ноября, №307), «Двадцать пять лет
русского искусства» (впервые - «Вестник Европы», ноябрь, декабрь 1882, февраль,
июнь, октябрь 1883); используем две работы Д. Мережковского - «О причинах
упадка и о новых течениях современной русской литературы» (впервые - отдельной
книгой в 1893) и «Пушкин» (впервые - отдельной книгой в 1896). Все эти
публикации в свое время участвовали в полемике по вопросам искусства. Нам легче
было воспользоваться этими статьями из сборников публикаций авторов, потому что
те журналы, в которых они выходили впервые в большинстве своем отсутствуют в
фондах библиотек Новосибирска.
Еще одна группа используемых нами источников - это мемуары. Прежде всего,
речь идет о «Моих воспоминаниях» А. Бенуа в 5 книгах (М., 1990). Это
замечательное сочинение дает картину жизни интеллигенции конца XIX - начала ХХ века - начиная с бытовых
условий, заканчивая духовно-идеологическими пристрастиями. Помимо этого Бенуа
был одним из основателей и интеллектуальных лидеров художественного объединения
«Мир искусства» и постоянным автором, а затем и со-редактором журнала «Мир
искусства». В воспоминаниях он немного писал о «журнальном периоде» «Мира
искусства», но его свидетельства очень ценны. С другой стороны, сталкиваясь с
источниками мемуарного характера необходимо помнить о субъективном аспекте
сочинения и о времени, когда оно было создано. «Мои воспоминания» Бенуа написал
в середине ХХ века - начале 60-х годов, через полвека после интересуемых нас
событий. Но блестящий критик и замечательный повествователь, Бенуа писал
искренне и по возможности беспристрастно, а часто оговаривался там, где не мог
написать однозначное суждение. Еще одно его сочинение, «Возникновение “Мира
искусства”» (Л., 1928), небольшое по объему, рассказывает о периоде
существование художественного объединения. Это сочинения менее подробно и носит
скорее характер рассуждения, но оно весьма ценно, так как рассказывает как раз
о нужном нам предмете и времени.
Еще один источник мемуарного характера - это «Константин Андреевич Сомов.
Письма. Дневники. Суждения современников» (М., 1979). Это издание крайне
интересно, ибо представляет материалы, так сказать, в «голом виде». Нас
интересовали в большей мере письма - самого Сомова и к Сомову. Самый
талантливый, по признанию самих мирискусников, из них всех, Сомов был очень
ранимым и чувствительным человеком. В его письмах отражены все стычки и ссоры,
победы и поражения «Мира искусства». Этот источник носит, скорее, эмоциональный
характер, но он так же важен, как все предыдущие.
Так же мы обращались к воспоминаниям замечательного критика Н. К.
Михайловского «Литературные воспоминания и современная смута»: В 2 тт., (СПб.,
1900). Мы взяли из его мемуаров его отзыв в адрес бывшего его ученика, Д.С.
Мережковского.
К второстепенным источникам можно отнести издания справочного характера,
с помощью которых мы получили данные об участниках «Мира искусства», и
некоторых участниках и событиях европейского искусства, которые интересовали
модернистов. Их же мы использовали для составления приложений. Это, прежде всего,
«Европейская живопись XIII -
XX вв. Энциклопедический словарь» (М.,
1999); Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. «Основы истории искусств» (СПб., 1996);
«Советский энциклопедический словарь» (М., 1990); «Русские писатели. ХХ век.
Библиографический словарь: В 2 ч. Ч. 2» (М., 1998) и «Русские писатели.
1800-1917. Библиографический словарь: В 8 тт. Т. 4» (М., 1999). Из них мы
использовали биографические данные и определение понятий. В этом плане такого
рода источники очень полезны для нашей работы.
Методология
Периодическая печать всегда являлась источником, требующем особого
подхода. Этот источник рассчитан изначально на большую аудиторию и несет в себе
заряд мощного воздействия на своих читателей. Периодическая печать
художественного направления, с которой мы имеем дело, добавляет сложностей в
своем изучении. По признанию самих создателей журнала «Мир искусства», они
стремились охватить все без исключения стороны культурной жизни России, а
вместе с тем и Европы. В нашем случае, периодическая печать модернистского
направления обусловлена не техническими условиями производства, а, прежде
всего, идеями. Идеи эти старались выявить взаимосвязь между эстетическими и
социальными воззрениями - таким образом, нас интересует социальная сторона
эстетизма. Наше исследование носит не искусствоведческий характер, а
исторический, и это подразумевает, прежде всего, выявление социальной окраски
эстетических идей, с которыми выступали модернисты.
Журнал дает очень много информации по совершенно разным темам. Помимо
этого журнал был создан для определенной группы общества - интеллигенции. Ввиду
огромного объема информации целесообразнее рассматривать ее полностью. Главным
принципом работы, применяемым в нашем исследовании, является системный подход.
Системный подход предполагает рассмотрение объекта (в данном случае издания
«Мир искусства») как единой системы, все элементы которой тесно связаны и несут
определенную смысловую нагрузку, а потому ни один из них не может быть упущен
из виду или заменен. Журнал позволяет нам таким образом увидеть в целом тот мир
искусства, который видели сами и стремились показать другим модернисты. Важно,
что журнал «Мир искусства» предстает при данном подходе как нечто целостное -
мы рассматриваем его целиком: все статьи, включая иллюстрации, которые подчас
лучше многих публикаций выражали пристрастия мирискусников. В свою очередь
журналы «Весы» и «Золотое руно» мы тоже вписываем в эту систему, потому что оба
последователя «Мира искусства» строились по схожим принципам, и все три журнала
- это та же система мировидения модернистов и требует соответствующего подхода
при ее исследовании.
Основной метод нашего исследования - сравнительно-исторический. Он, в
свою очередь, был обусловлен историко-генетическим методом, который
предполагает рассмотрение возникновение тех или иных идей и проблем на
страницах модернистской печати. Вследствие этого мы используем и
сравнительно-исторический метод. Мы сравниваем идеи и взгляды модернистов с
воззрениями их предшественников. Историческая сторона метода вызвана
сопоставлением рассмотрения внутренней ситуации в культуре России конца XIX - начала ХХ века с обращением к
западноевропейскому опыту этого периода. Журнал отражал все модные тенденции
своего времени. И в этом его главное, историческое в том числе, значение.
В нашей работе был использован контент-анализ. Контент-анализ, как
правило, представляет собой социологический метод исследования, но в последнее
время он все чаще используется в исторических работах. Так как наше
исследование носит скорее социально-исторический характер, то использование
этого метода вполне логично в нашей работе. На наш взгляд было необходимо
произвести подсчет в отношении соотношения тем европейской и русской культуры
на страницах журнала «Мир искусства». В качестве единиц счета мы взяли статьи.
Анализу подверглись все статьи журнала за все годы его издания. Считалось,
сколько статей посвящено Европе и сколько России, одновременно с этим было
выведено общее число статей журнала «Мир искусства». Суммы, полученные в
результате анализа, мы возвели в процентное соотношение. Погрешность составляет
приблизительно 0,5-2%. Благодаря наличию у нас полной информации по «Миру
искусства», мы можем принять полученные цифры за достоверные.
Помимо этого, в исследовании присутствуют методы обобщения и логический
метод. Первый был необходим нам для определения главных оппонентов модернистов.
Второй метод обуславливает причины, по которым мы определили этих оппонентов.
Данные методы позволяют решить поставленные задачи.
ГЛАВА 1. ПОЛЕМИКА ПО ЭСТЕТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ В РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 90-Х ГГ. XIX
ВЕКА
В конце XIX века в среде интеллигенции России
возникла конфликтная ситуация. В первой половине 90-х гг. стало ясно, что,
прежде всего в художественной среде интеллигенции, существующее направление
определенно устаревает и на горизонте уже видно новое молодое поколение со
своими идеями, которые во многом шли вразрез с давно установленными привычными
принципами в искусстве. Были и внешние причины появления нового направления.
Как пишет исследователь символизма в России, Воскресенская М.А., «после
катастрофы 1 марта 1881 года, положившей конец эпохи и без того крупных
буржуазных реформ, внутри прежде единой социальной группы - российской
интеллигенции - начался процесс расслоения. Главным его следствием стало складывание
в России культуры Серебряного века».
Появление нового направления в искусстве поставило две главных проблемы:
- отрицание молодежью наследия 60-70-х гг. и обращение к поколению
40-50-х гг.;
- отрицание утилитаризма и романтическое прочтение искусства.
Это двойное отрицание возмущало предыдущее поколение. Под этим понятием -
предыдущее, старое направление, - мы подразумеваем не какую-то определенную
группу интеллигенции, как, например, радикалы или либералы. Мы намерены
обозначать этим понятием довольно разнородных представителей этой среды,
которые были связаны между собой своим пониманием искусства и схожестью своих
эстетических представлений. Таковыми были, прежде всего:
- художники-передвижники и их теоретики, ибо они напрямую принимались
новым модернистским направлением за предшественников, которые стоят в оппозиции
к ним, молодым художникам;
- литературные критики и философы, оспаривающие символизм как
направление и отстаивающие утилитаристские взгляды в искусстве как единственно
возможные.
Сами модернисты нередко называли предыдущее поколение «старой гвардией».
Мы позволим себе так же пользоваться этим метким определением.
.1 Проблема культурного наследия
Проблема культурного наследия - одна из двух главных проблем, возникших в
связи с появлением молодого направления, - в свою очередь обозначила два
основных предмета споров двух поколений на рубеже XIX-XX
веков:
- почему новое направление отказывается от наследия их
предшественников, поколения 60-70-х гг.?
- стоит ли молодое поколение считать действительно новым
направлением в искусстве?
По мнению Воскресенской М.А., «творцом культуры Серебряного века стал
новый тип интеллигенции, сложившийся в России к рубежу столетий и ставший
культурной элитой русского общества. Представители новой социальной группы,
потрясенные грехом цареубийства, взятым на себя народниками, критически подошли
к идеалам “шестидесятников”, а затем и марксистов… Даже не будучи людьми
абсолютно аполитичными, они оставались вне каких-либо конкретных партийных
пристрастий. Выступая не с классовых, а с общенациональных и общечеловеческих
позиций, культурная элита выдвигала духовно-нравственные противовесы политике».
Таким образом, новый тип интеллигенции с самого начала стремился отмежеваться
от предыдущего поколения, их идеалов, их взглядов и позиций, найдя противоречия
с ними не только в области эстетики, но даже в области политических
пристрастий.
В 1891 году в «Московских ведомостях» появилась статья В. Розанова
«Почему мы отказываемся от “наследства 60-70-х годов”?». Можно считать, что
статья открыла последующую полемику, возникшую в среде интеллигенции России, по
первому из обозначенных нами вопросу.
Главной проблемой, которую обозначил автор, была преемственность
поколений. В. Розанов громко заявил о смене поколений в социокультурной жизни
России. На смену людям 60-70-х годов пришло новое поколение 80 - 90-х.
Поколение молодых, энергичных, талантливых людей, которые смотрели на русское и
мировое искусство несколько иначе, чем их «отцы». Возник своеобразный конфликт
взглядов и интересов между старой гвардией и молодежью. Эти противоречия лучше
всего отражают статьи оппозиционных друг другу сторон.
Какие проблемы обозначила статья В. Розанова? Прежде всего - проблему
«отцов и детей» - вечную проблему, неразрешимую, но всегда повторяющуюся при
смене одного поколения людей другим. Розанов весьма поэтично описал подобную
ситуацию в среде русской интеллигенции: «…Люди шестидесятых и семидесятых годов
принесли из бесценной сокровищницы Запада новые семена на свою родину - и ниву,
уже засеянную их отцами, занимая их след, засеяли новым принесенным семенем.
Нива снова взросла, жатва созрела и была срезана, но… когда должен был начаться
вечерний пир, пищи не оказалось. Люди, приведенные на этот пир с молодыми,
свежими инстинктами, непреодолимо отвращаются от приготовленных яств. И
старики, которые так много трудились на ниве в знойные и в холодные дни, руки
которых устали и более неспособны к труду, видят, что свою жатву, надежду
стольких лет, им остается только унести с собой в могилу. Все это страшно
горько, страшно трудно, надо всем этим нельзя смеяться, и дурно делает тот, кто
это делает. Но изменить факта нельзя - и не следует». Чтобы подчеркнуть, что
это явление не ново в культурной жизни, Розанов обращается к опыту
взаимоотношений поколения людей 40-50-х годов с тем же поколением 60-70-х в
годы их молодости. Последние точно так же, как и их наследники, отринули
многие принципы, воззрения и труды предыдущего поколения, которое во многом
оказалось лучше своих «детей».
Здесь Розанов обозначает один из самых острых углов этой проблемы - не
окажется ли со временем, что предыдущее поколение все же было во многом лучше
молодежи 80-90-х гг., сменившей его и не пойдет ли эта молодежь
ошибочными путями? Ведь раз так случилось с людьми 60-70-х годов, что мешает
этому повториться с их «детьми»? Этот взгляд, на молодое поколение, так или
иначе, присущ представителям именно старой гвардии. Старое направление всегда
предполагает, что их последователи окажутся намного хуже них самих. Автор
статьи замечает, что есть основание так думать - ведь именно так произошло с
самими людьми 60-70-х годов.
Но Розанов подчеркивает, что пример поколения 70-х годов совершенно
нетипичен для обычного развития отношений «отцов и детей». Люди 40 - 50-х
годов, по мнению Розанова, были людьми «углубленного развитого чувства»,
«рефлексии». Они часто обращались к Европе и брали у нее только самое лучшее.
Это лучшее они пытались привить родине и ту массу идей, выдвинутых ими, должны
были применить на практике их «дети», поколение 60-70-х годов. Вместо того,
чтобы действительно сделать это и, приняв лучшее, что было сделано предыдущим
поколением, пытаться развивать их идеи и в то же время привносить что-то свое,
они не воспользовались такой возможностью и, запутавшись сами, пытались на
пустых основах возводить свое искусство. Лишь малая часть них пошла своим,
правильным путем: «Они учились, они размышляли и чувствовали, как люди
сороковых и пятидесятых годов; из них многие и теперь живы, и как светоч
блистают для нас в сферах науки, литературы и, может быть, политической
деятельности…». Но основная масса семидесятников так не сделала: «На дела их,
на писания в течение двадцати лет можно здесь набросить покров: мы все их
знаем, не знаю, желательно ли составление очень подробной истории этих писаний
и дел, и часто думается - раз это время уже минуло, - что лучше бы никогда не
поднимать над ними покрова». Таким образом, по мнению В. Розанова, труды многих
семидесятников даже не стоило создавать.
Что именно, как считает Розанов, было несостоятельного в поколении
60-70-х годов? Он приводит пример. В те годы, когда как раз предыдущее
поколение преподавало в университетах, печатались в прессе, сам Розанов учился
в гимназии, по его же словам. И он, как и все молодое поколение, сумел увидеть абсолютную
бедность мысли их преподавателей - не было никакого уважения к гениальным
произведениям древности, присутствовало полное равнодушие к науке, отказ от
идеализма в науке. Их преподаватели казались молодым ученикам недалекими,
самодовольными и пустыми, как и их работы, написанные в те годы. И они и были
таковыми на самом деле, утверждает Розанов. Припоминая упреки Н. Михайловского
молодому поколению в том, что они отрицают лучшие заветы отцов*, Розанов пишет: «Положа руку на
сердце, может ли он сказать, что мы могли быть другими, вынеся с ранних годов
все эти впечатления? И сам он, ясно, как мы, сознавая унижение науки ее
служителями, не попытался ли бы вырвать у них по земле волокущее знамя и
понести его хоть как-нибудь самому? Не встал ли бы он, оставаясь таким же и
только родясь в наше время (то есть, не будучи сам инициатором многих идей,
естественно не могущим отнестись к ним “со стороны”) в ряды самых горячих
борцов с поколением отживающим, в котором стоит теперь?».
Розанов продолжает анализ наследия предшественников в следующей статье «В
чем главный недостаток “наследства 60-70-х годов”?». Он тщательно разбирает все
минусы доставшегося им наследия и в качестве главных отмечает: бедность мысли,
отсутствие глубокой вдумчивости и ярких художественных индивидуальных
одаренностей в поколении 60-70-х гг. По мнению В. Розанова, эти качества во
многом определили и историческую недолговечность данного поколения: «Не
беспричинна была и какая-то странная недолговечность его, и это отсутствие хотя
бы одного гениального дарования на всем его протяжении, и какое-то органическое
отвращение, которое выказывало к нему богато одаренное поколение 40-50-х
годов». По его мнению, главный недостаток предыдущего поколения был как раз в
том, что люди эти были духовно слабы, плохо начитаны и не могли в
художественном плане полностью давать картину того, что они видят - они были в
состоянии лицезреть лишь часть действительности, и в этом тоже была их
своеобразная ущербность. Розанов проводит ту мысль, что новому направлению просто
нечего брать у предшествующего поколения.
Нельзя сказать, что Розанов, принадлежа к новому поколению, яростно
отстаивал принципы молодого направления (модернизма, символизма, декаданса).
Сложно четко определить, принадлежал ли Розанов к какому-то одному направлению.
В. Розанов был к этому времени уже опытным публицистом. Публиковался в разное
время в 40 изданиях, в том числе в газетах «Новое время», «Русское слово» (под
псевдонимом В. Варварин), монархическом «Колоколе» под псевдонимом В. Ветгулин.
Сам считал, что для него не важны направления издания и редакторы. Он
сотрудничал с модернистскими изданиями, прежде всего с «Миром искусства», потом
вел отдел в журнале «Новый путь», но вряд ли поэтому его можно причислить к
модернистам. Он был старше большинства участников кружка Бенуа-Дягилева, но и
связать его со старым поколением нельзя - как видим, он открыто обличал
несостоятельность художественного наследия 60-70-х годов.
Несомненная заслуга Розанова в том, что он первым поставил вопрос о
наследии в среде интеллигенции в начале 90-х годов XIX века. Именно с его статей началась полемика по
проблемам искусства, которая все больше и больше показывала конфликт двух
поколений.
Зимой 1892 года в Петербурге Д.С. Мережковский, один из будущих столпов
символизма, прочел две лекции, а годом позже опубликовал их за свой счет под
общим названием «О причинах упадка и о новых течениях современной русской
литературы». Эта небольшая работа весьма значима для истории русского
символизма. Молодой Мережковский здесь дал видение своего времени перед
приходом нового направления, к представителям которого он себя причислял. Он
писал об этом новом направлении: «Это течение или, лучше сказать, эта смутная
потребность целого поколения, едва определившаяся, почти не выраженная словами,
возникла не из метафизических обобщений, а прямо из живого сердца, из глубин
современного общеевропейского и русского духа. Я даже не знаю, можно ли назвать
эту потребность литературным течением. Это, скорее, только первая подземная
струйка вешней воды, слабая и жизненная. Ее характерная черта - соединение двух
глубоких контрастов: величайшей силы и величайшего бессилия. Я сказал, что она
слабая, и, в самом деле, ничего не может быть легче, как осмеять ее и
отвергнуть, презрительно заметить, что это старая песня на новый лад. Но после
смеха и отрицания она будет существовать по-прежнему, даже расти и усиливаться,
потому что она - живая, она стремиться утолить вечную потребность человеческого
сердца». В этом поэтическом описании символизма выразилось упорное стремление
Мережковского доказать, что модернизм - это самое настоящие направление в
искусстве, а не просто незрелые игры молодежи, какими их пытались выставить
представители предыдущего поколения интеллигенции. Мережковский намеренно
подчеркнул, что содержанием новых исканий является утоление жажды чувств и
чувственности, того, что требует человеческое сердце.
Мережковский так же коснулся проблемы «отцов и детей» в своей работе. «Во
времена Пушкина, - пишет он, - критики так же красноречиво оплакивали
безнадежное падение русской литературы, как во время Тургенева, Достоевского и
Толстого. Старики любят употреблять это оружие против молодых. Отживающие
искренне убеждены, что во времена их молодости и небо было яснее, и земля
плодороднее, и девушки красивее, и писатели талантливее. Но характерная черта
таких недобросовестных и неосновательных жалоб на падение литературы - личная
нота, торжествующая насмешка и злорадство». Модернисты всегда умели посмотреть
на возникающие противоречия с представителями старого направления, прежде всего
с психологической точки зрения. Это было характерно и для мирискусников во
главе с С. Дягилевым, как мы убедимся скоро.
Мережковский негативно характеризует современное ему окружение и
отстаивает принципы символизма. Он приводит мнение Гете, что любое поэтическое
произведение должно быть символично, а далее объясняет, что есть символы:
«Символы должны естественно и невольно выливаться из глубины действительности.
Если же автор искусственно их придумывает, чтобы выразить какую-нибудь идею,
они превращаются в мертвые аллегории, которые ничего, кроме отвращения, как все
мертвое не могут возбудить… Символизм делает самый стиль, самое художественное
вещество поэзии одухотворенным, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие
стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя». Мережковский
сформулировал и главные элементы нового искусства - мистическое содержание,
символы и расширение художественной впечатлительности . Работа
Мережковского не только отстаивала состоятельность и закономерность нового
направления в искусстве, но и дала конкретный материал для оппонентов
модернистов в полемике против них.
Крайне возмущенный отзыв эта работа получила со стороны известного
критика Н.К. Михайловского, который был бывшим учителем молодого Мережковского.
В феврале 1893 года в журнале «Русское богатство» он поместил разгромную статью
на этот небольшой труд бывшего ученика. Он стремился показать неоправданность
появления в России новых течений, которые столь недавно зародились во Франции -
у нас, в России, по мнению Михайловского, нет никакой почвы для усвоения
символизма. И то, что г. Мережковский настаивает на обратном, говорит лишь о
его незнании истинных интересов русского общества. Как пишет исследователь
символизма А. Пайман, «лекции Мережковского услышала и прочла всего лишь
горстка людей, но нападки на них Михайловского прокатились эхом по всей
читающей России. В основном именно они породили миф, до сих пор кочующий по
страницам научных трудов, посвященных данному периоду, будто русский символизм
был растением, попросту пересаженным из Франции и не имевшем корней в русском
обществе. При этом тот факт, что именно Михайловский заклеймил “новые течения”
как “дегенеративные” и “декадентские”, стал причиной столь же неверного
объяснения зарождения символизма в России, будто бы явившегося чисто местной
реакцией на утилитаристские ценности народничества». В своем утверждении
Пайман, безусловно, права.
Полемика о старом и новом в художественной жизни России, не могла не
затронуть главной проблемы этой сферы - вопроса о содержании и границах
искусства.
Среди всех статей, представляющих полемику по вопросам искусства,
конечно, главный резонанс вызвала публикация Л. Толстого «Что такое
искусство?», которая появилась зимой 1897-1898 гг. в журнале «Вопросы философии
и психологии». В своем труде Толстой затронул основные эстетические проблемы,
главной из которых был как раз вопрос о наследии. Автор, как яркий
представитель старого направления, написал обширную статью об искусстве, где
попытался доказать несостоятельность как самого нового направления, так и их
идеалов, и возражений против прежних взглядов на искусство в целом.
Главными свойствами декадентов Толстой называет «неопределенность и
некрасноречивость», задачу новых художников он видит следующим образом:
«Опираясь на Ницше и Вагнера, художники нового времени полагают, что им не
нужно быть понятыми грубыми массами, им достаточно вызвать поэтические
состояния наилучше воспитанных людей…». Критерий ясности поэзии очень важен для
Толстого - ему самому стихотворения символистов абсолютно непонятны. Что
интересно, автор статьи тщательно разбирает западных декадентов - прежде всего,
французских поэтов-символистов. Во-первых, потому что это направление на Западе
было уже достаточно окрепшим, вызывающим интерес, пересуды и даже приверженцев.
А, во-вторых, потому что именно из Франции новации в художественной сфере
распространялись на всю Европу, и Россию в том числе. Не исключено, что,
заметив зачатки этого направления в России, Толстой подробно ознакомился с
французским символизмом и в статье стремился показать, как будет пагубно это
направление для русского искусства.
В каждом его слове, написанном о декадентах, чувствуется субъективная
оценка автора - он против нового направления и не приемлет новых форм
искусства. В том, что такое направление появилось, он винит художественную
интеллигенцию. На наш взгляд это не совсем правильная позиция. Разумеется,
общество получает то искусство, которому соответствует. Художникам,
скульпторам, музыкантам, поэтам, писателям сложно творить, если общество
остается равнодушным к продуктам их творчества. Но появление нового направления
не только заслуга общества, это естественное развитие культурной жизни людей.
Одно направление сменяется другим, которое, как правило, вырастает из первого.
На рубеже XIX-XX веков в искусстве возникает символизм (модернизм, декаданс)
- явление вполне ожидаемое. Стремясь скрыться от окружающей их реальности,
которая казалась им пустой и уродливой, модернисты искали такие формы
выражения, которые позволяли бы им уходить от действительности в мир символов,
мир прошлого, мир прекрасного. Но Толстой этого не принимает в силу своего
понимания роли искусства в обществе. Он пишет: «…Искусство того общества, в
котором действуют эти стихотворцы, не есть серьезное, важное дело жизни, а
только забава. Забава же всякая прискучивает при всяком повторении. Для того
чтобы сделать прискучивающую забаву опять возможной, надо как-нибудь обновить
ее: прискучил бостон - выдумывается вист; прискучил вист - придумывается
преферанс; прискучил преферанс - придумывается еще новое и т.д. Сущность дела
остается та же, только формы меняются. Так и в этом искусстве: содержание его,
становясь все ограниченнее и ограниченнее, дошло, наконец, до того, что
художникам этих исключительных классов кажется, что все уже сказано и нового
ничего уже сказать нельзя. И вот, чтобы обновить это искусство они ищут новые
формы». Толстой говорит не только о поэтах («Живопись не только не отстает в
этом от поэзии, но идет впереди нее»), он имеет ввиду и музыку - он говорит о
символизме в целом. Особенно автор осуждает современных исследователей
искусства, которые уже записали декадентов как новое направление в своих
работах - например, Р. Мутер. Толстой с ним абсолютно не согласен.
Здесь мы видим пример мнения по вопросу о том, стоит ли вообще модернизм
считать новым направлением. По мнению Толстого, это лишь хорошо забытое старое
- и ничего нового здесь нет.
Впрочем, Толстой не отрицает того факта, что может не понимать новое
направление, потому что является представителем старого поколения: «Осуждать
новое искусство за то, что я, человек воспитания первой половины века, не
понимаю его, я не имею права и не могу; я могу только сказать, что оно не
понятно для меня. Единственное преимущество того искусства, которое я признаю
перед декадентским, состоит в том, что это, мною признаваемое искусство понятно
несколько большему числу людей, чем теперешнее».
Важно, что Толстой обозначает новую проблему - о связи искусства и
аудитории, то есть проблему коммуникативной роли искусства. По его мнению,
искусство должно быть понимаемо людьми, и только тогда оно будет считаться
искусством. Оно должно затрагивать чувства человека - «если искусство не
трогает, то нельзя говорить, что это происходит от непонимания зрителем и
слушателем, а можно и должно заключить из этого только то, что это или дурное
искусство, или вовсе не искусство». Толстой тесно связывает эту проблему с
социальной ролью искусства и народом, который, по его мнению, является истинным
и единственным ценителем искусства. Мы еще рассмотрим это подробнее.
Особого внимания заслуживают мнения Толстого о критиках и художественных
школах. Что примечательно, он пишет о том, что затем подхватят в своих
утверждениях и модернисты. Это, на наш взгляд, подтверждает нашу мысль, что
новое направление всегда вырастает из старого и связано с ним теснейшим
образом. Толстой пишет о критиках: «Художник, если он настоящий художник,
передал в своем произведении другим людям то чувство, которое он пережил; что
же тут объяснять?». Автор полагает, что критика появилась в результате
амальгамного развития искусства, следствием которого явился тот факт, что
искусство превратилось в искусство богатых классов. Критика вообще невозможна в
художественной сфере, где продукты творчества художника рождаются в результате
его жизненного восприятия: «Главный вред критиков состоит в том, что, будучи
людьми, лишенными способности заражаться искусством (а таковы все критики: если
бы они не были лишены этой способности, они не могли бы браться за невозможное
толкование художественных произведений), критики обращают преимущественное
внимание и восхваляют рассудочные, выдуманные произведения, и их-то выставляют
за образцы, достойные подражания». Интересен тот факт, что Толстой был убежден
- именно из-за критиков появились декаденты: «Только благодаря критикам,
восхваляющим в наше время грубые, дикие и часто бессмысленные для нас
произведения древних греков: Софокла,
Эврипида, Эсхила, в особенности Аристофана,
или новых: Данте, Тасса, Мильтона,
Шекспира; в живописи - всего Рафаэля, всего Микеланджело с его нелепым
“Страшным судом”; в музыке - всего Баха и всего Бетховена с его последним
периодом, стали возможны в наше время Ибсены, Метерлинки, Верлены, Малларме, Пювис де Шаванны,
Клингеры, Бëклины, Штуки, Шнейдеры, в музыке - Вагнеры, Листы, Берлиозы, Брамсы, Рихарды Штраусы и т.п., и вся эта огромная масса ни на что не нужных
подражателей этих подражателей». Конечно, взгляды Толстого и модернистов на
критику расходятся именно в том, что несостоятельная критика порождает
лжеискусство вроде модернистского.
В оценке художественных школ Толстой столь же категоричен: они возникают
только в искусстве богатых классов. Он припоминает слова Брюллова о том, что
искусство начинается там, где начинается «чуть-чуть» - то есть где художник
позволяет себе, к примеру, только легко коснуться кистью картины, чтобы та
ожила. «Обучение школ останавливается там, - замечает Толстой, - где начинается
чуть-чуть, - следовательно, там, где начинается искусство». Как и позднее
модернисты, Толстой приходит к следующему заключению: «…Художественные школы
вдвойне губительны для искусства: во-первых, тем, что убивают способность
воспроизводить настоящее искусство в людях, имевших несчастье попасть в эти
школы и пройти в них семи-восьми-десятилетний курс; во-вторых, тем, что
распложают в огромном количестве то поддельное искусство, извращающее вкус
масс, которым переполнен наш мир».
Талантливый, известный философ В.С. Соловьев в начале 90-х годов тоже
обратился к эстетическим проблемам. Основная идея его статей сводилась к
развитию убеждения в социальной роли искусства, к чему мы еще вернемся позднее;
но он высказал свою точку зрения о молодом поколении и их отношении к наследию
70-х годов. В этом плане интересна его статья «Против исполнительного листа»
1899 года, где он выступает против самого объединения «Мира искусства» и
одноименного журнала в том числе. Как безусловный защитник утилитарных
принципов искусства и старого поколения, Соловьев негативно отзывается о
молодой художественной элите, и в частности о Д. Философове, который осмелился
написать отзыв на его статью «Идея сверхчеловека» о философии Ф. Ницше.
Соловьев довольно холодно характеризует молодое направление и их взгляды: «…Они
сговорились называть это “новой красотой”, которая должна заменить устарелые
идеи истины и добра. Они знают, что логически это бессмыслица, но, объявив себя
здорово-живешь сверхчеловеками, они тем самым признали себя существами и
сверхразумными и сверхлогическими». Важно, что Соловьев ставит вопрос о
единстве нового направления - по сути, вопрос единства очень важен для любого
художественного объединения. Если единства нет, есть ли смысл говорить о
направлении как таковом? Соловьев подчеркивает: «…Да и можно ли говорить о
наших декадентах (это, кажется, будет самое подходящее по своей
неопределенности общее название) как об одном, солидарном в себе целом? Ведь
Мережковский очень не похож на Минского, оба они не похожи на Волынского, и еще
меньше, я думаю, сходства между Д. Философовым и В. Розановым». Частично В.
Соловьев оказался прав - объединение «Мир искусства» в 1902 году раскололось, и
ряд авторов журнала ушли из него, основав собственный «Новый путь». Но
модернистское направление все же не исчезло, оно окрепло, оно развивалось,
результатом чего стало целое культурное явление, обозначенное в истории как
Серебряный век.
Важно, что Соловьев придерживается мнения, схожего с суждением Л.
Толстого - молодое поколение вовсе не является новым направлением в искусстве.
Но не по причине того, что ничего нового оно не привносит в искусство, как
полагал Л. Толстой, а по той причине, что это не направление вовсе, потому что
эта молодежь разрознена, их идеи смешны и нелепы, и назвать эти мальчишечьи
выходки направлением, по мнению Соловьева, просто глупо.
Особенно примечательны рецензии В. Соловьева на сборники стихов
поэтов-символистов, которые начали выходить с 1894 года. Как замечает Никитина
М.А., эти рецензии до начала 1900-х годов были «образцом отповеди символизму».
Рецензии едко высмеивали «непонятные» стихотворные попытки молодых декадентов
выразить себя. «Природа существ, именующих себя русскими символистами, -
подчеркивает Соловьев, - имеет главным своим признаком чрезвычайную быстроту
размножения. Еще тем летом их было только два, а ныне уже целых десять». О
самой поэзии Соловьев самого нелестного мнения: «Некоторые символисты облегчают
себе труд сочинения бессмысленных стихов довольно удачным приемом: написавши
один стих, они затем переворачивают его наизнанку - выходит другой… Гг.
символисты укоряют меня в том, что я увлекаюсь желанием позабавить публику; но
они могут видеть, что это увлечение приводит меня только к простому
воспроизведению их собственных перлов». Интересно, что Соловьев тоже писал
стихи, и сами символисты считали его именно поэтом нового направления.
«Негативное отношение Соловьева к раннему символизму, - пишет Никитина М.А., -
в какой-то мере способствовало “канонизации” его “младшими символистами” в
качестве духовного отца новой поэзии». Быть может, замечая сходство их поэзии,
Соловьев и был так беспощаден к молодым дарованиям?
Полемика в среде интеллигенции разгоралась все сильнее, тем более, что с
1899 года стал выходить модернистский журнал «Мир искусства», страницы которого
и стали своеобразной ареной для выступления самих модернистов, которые
наконец-то смогли отвечать на упреки своих строгих оппонентов. Подробнее об
этом мы еще скажем.
В художественной среде главными противниками молодых модернистов
выступали передвижники. Товарищество передвижных художественных выставок было тем
самым старым направлением, от которого стремились отмежеваться мирискусники и
которое упрямо продолжало устраивать выставки, хотя ничего нового давно уже не
могло предложить русскому искусству. Главным защитником и глашатаем
передвижничества был замечательный русский критик, публицист В.В. Стасов. В
отношении нового модернистского направления он показал себя настоящим
консерватором, типичным представителем «отцов», выступающих против дерзких
«детей». Большинство исследователей его творчество всегда подчеркивали его
абсолютное неприятие нового направления. Особенно известны две его разгромные
статьи в адрес «Мира искусства» - «Нищие духом» и «Подворье прокаженных».
Помимо этого он громил декадентов в еще нескольких статьях, на некоторые из
которых мы будем ссылаться. Стасов, рассматривая первых четыре номера нового
журнала, был возмущен словами модернистов о том, что Россия отстает от Европы,
и последняя совсем не воспринимает сегодняшнего русского искусства. Он резко
пишет: «…Все, высказываемое тут декадентами - только фальшь, ложь. Никогда
Европа не считала русского искусства устаревшим и заснувшим, а, напротив,
всегда считает его молодым, лишь недавно выступившим и имеющим впереди великое
будущее». Стасов не понимает, как можно называть это явление новым направлением
в искусстве, когда наши декаденты просто переняли это «безобразие» у Запада:
«Западным людям их декаденты столько же противны и тошны, как нам наши, и они
от них отплевываются с такой же досадой и негодованием, как мы от наших… Разве
у нас, в России, выдуманы слова “декадент”, “декадентство”? Никогда. Они
придуманы на Западе и их назначение - клеймить ту секту, которая большинству
людей противна, гадка, невыносима, как безобразие, как насилование природы, как
искажение ее, как поклонение тому, что безумно по содержанию и бестолково по
форме».
Здесь на лицо пример отношения представителя старой гвардии к новому
молодому направлению, которое он не понимает, считает безобразной насмешкой над
искусством и полагает, что явление это долго просто не способно
просуществовать. Очень болезненно это явление для Стасова еще и потому, что он
полжизни положил на алтарь служения и защиты Товарищества передвижных
художественных выставок. Борьба с устаревшими академическими формами и
принципами в искусстве, продвижение реализма в русской живописи - все это
Стасов считал великим делом и не мог взять в толк, как кто-то осмеливается
теперь заявлять о необходимости новаций в искусстве и предлагать взамен столь
дорогого ему передвижничества «чепуху и чепуху, безобразие, безобразие и
безобразие».
Главными лозунгами декадентов он называет - «чтобы не было сюжетов в
картинах! Да будут все картины без содержания, без мысли и без смысла! Иначе
они недостойны именоваться художественными произведениями». Стасов не может
смириться с мыслью, что это новое поколение, которое должно их сменить. На
протяжении нескольких лет он пишет оскорбительные отзывы на модернистские
выставки, критикует картины и статьи модернистов и всячески противиться тому,
чтобы признать их новым направлением в русском искусстве. Стасов видит в них
врагов - и в первую очередь врагов передвижников, которые хотят уничтожить все,
что было ими и Стасовым создано: «Наши декаденты дышат ненавистью и разрушением
всего, что до них было. Им все скверны, все негодны, все невыносимы, кто не их
идольского прихода. Всех тех надо согнать со света, всех уничтожать…». Конечно,
здесь знаменитый критик допускает преувеличение. Дягилев неоднократно на
страницах «Мира искусства» подчеркивал, что их объединение является тем новым направлением,
которое должно эволюционным путем сменить старое направление в лице
передвижников. И тем более никто из модернистов никогда не намеревался
уничтожать любую память об «отцах», равно как и их работы. Напротив,
мирискусники всегда признавали богато одаренное прошлое русского искусства, в
том числе их восхищали многие работы передвижников. И все их заслуги, которыми
так гордился Стасов, они, безусловно, учитывали. Но тем и ценно своеобразное
мнение Стасова, что прекрасно иллюстрирует настроение русской интеллигенции
старой закалки, когда модернисты - или декаденты, как их предпочитали величать
«отцы», - только появились в русском искусстве.
Стасов обзывает Дягилева то «декадентским старостой», то пастухом, а
самих символистов - безвольным стадом, которые даже не в состоянии творить
что-то свое, русское. Иногда Стасов позволял себе довольно обидные сравнения -
например, с подворьем прокаженных из романа Гюго «Собор Парижской Богоматери»,
а их выставку называет - «выставкой нравственной слизи и липкой художественной
грязи». Важно, что взгляды критика на модернистское направление не менялись и
всегда оставались сугубо отрицательными.
Как замечают Салита Е.Г. и Суворова Е.И., «Стасов не считал новые
тенденции в искусстве того времени явлением историческим и социально
обусловленным. Он относился к ним, как к болезненным факторам, вызванным
патологией психики художников. В этом ограниченность его позиции». Это же
подчеркивают и Лебедев А.К и Солодовников А.В., которые считают, что Стасов
судил о модернистах лишь по их несколько наивной юношеской декларации, с
которой они начинали свой путь, а не по их творчеству, а ведь их работы
говорили о новом вкладе в русское искусство - свежем и оригинальном.
Действительно, модернисты хотели изначально сразу и громко заявить о себе -
прежде всего на страницах своего журнала. И Стасов их моментально воспринял как
врагов, перенеся негативное отношение и на их творчество в живописи. В любом
случае, этот замечательный критик ошибался в отношении молодых художников, и
это вскоре подтвердилось - и успехом их международных выставок, и известностью,
которую приобретали их работы.
Подводя итог, заметим следующее. К началу 90-х годов XIX века художественная интеллигенция
поняла, что в русском искусстве грядут изменения. Новация заключалась в том,
что вместе с новым поколением пришло новое направление, позже названое
декадентством, модернизмом, символизмом. Характерно, что старое поколение
весьма скептически отнеслось к своим наследникам. Таким образом, возник
конфликт «отцов и детей», который, преодолев рубеж веков, сошел на нет лишь к
началу 1910-х годов. Главными вопросами, которые стали центральными в споре
двух поколений были: проблема неприятия молодежью наследия их «отцов», вопрос о
самостоятельности и единстве нового направления, приемлемость модернизма для
русской культуры - ведь направление было заимствовано из западного искусства.
Таким образом, новое направление, как и следовало ожидать от любого недавно
зародившегося направления, возникло в условиях негативного к нему отношения со
стороны их предшественников.
.2 Социальная роль искусства
Со второй половины XIX
века в русском искусстве был провозглашен утилитаризм, главным постулатом
которого был принцип - искусство должно отражать реальную жизнь и быть полезным
обществу. Только когда искусство приносит пользу, оно является искусством.
В начале 90-х годов, с приходом нового направления, возникает и давно
забытый эстетический принцип «искусство для искусства», которого придерживались
модернисты. Они полагали, что искусство ценно само по себе, и должно
существовать независимо от пользы. Старое поколение художественной
интеллигенции придерживалось мнения, что искусство создается при помощи людей и
для людей, а потому должно нести в себе некий нравственный заряд и должно быть тесно
связано с народом. Таким образом, возник конфликт двух направлений, которые не
совпадали ни по взглядам, ни по интересам.
Главным образом можно выделить две проблемы, которые волновали оба лагеря
интеллигенции в отношении социальной роли искусства:
- уместен ли утилитаризм в искусстве;
- необходима ли связь искусства с народом.
Начнем с первой проблемы. Одним из яростных приверженцев утилитаризма в
искусстве был В.В. Соловьев. Ряд его блестящих работ посвящен именно этой
эстетической проблеме. В 1889 и 1890 гг. в журнале «Вопросы философии и
психологии» вышли две его статьи, «Красота в природе» и «Общий смысл
искусства», тесно связанные между собой. В них он впервые затронул
противостояния двух эстетических принципов - «искусство для искусства» и утилитаризма.
Соловьев замечает: «Страшно, кажется, возлагать на красоту спасение мира, когда
приходиться спасать саму красоту от художественных и критических опытов,
старающихся заменить идеально-прекрасное реально-безобразным. Но если не
смущаться грубыми, а иногда и совсем нелепыми выражениями новейшего
эстетического реализма (и утилитаризма), а вникнуть в существенный смысл его
требований, то в них именно и окажется безотчетное и противоречивое, но тем
более дорогое признание за красотою мирового значения: ее кажущиеся гонители
усвояют ей как раз эту самую задачу спасать мир. Чистое искусство, или
искусство для искусства, отвергается как праздная забава; идеальная красота
презирается как произвольная и пустая прикраса действительности. Значит,
требуется, чтобы настоящее художество было важным делом, значит, признается за
истиною красотою способность глубоко и сильно воздействовать на реальный мир».
То есть Соловьев замечает, что если «очистить» утилитаризм от всевозможных
пышных формулировок и посмотреть на суть - что искусство есть великое и важное
дело, - то это будет самый правильный взгляд.
Несмотря на то, что он намеревается быть объективным в оценке различных
подходов к красоте, становится очевидным на чьей стороне его симпатии: «В
человеческой жизни художественная красота есть только символ лучшей надежды,
минутная радуга на темном фоне нашего хаотического существования. Против
этой-то недостаточности художественной красоты, против этого поверхностного ее
характера и восстают противники чистого искусства. Они отвергают его не за то,
что оно слишком возвышенно, а за то, что оно не довольно реально, т.е. оно не в
состоянии овладеть всею нашей действительностью, преобразовать ее, сделать
всецело прекрасною. Быть может, сами неясно это сознавая, они требуют от искусства
гораздо большего, чем то, что оно до сих пор давало и дает. В этом они правы, -
подчеркивает Соловьев, - ибо ограниченность наличного художественного
творчества, эта призрачность идеальной красоты выражает только несовершенную
степень в развитии человеческого искусства, а никак не вытекает из самой его
сущности».
Рассматривая само понятие красоты, Соловьев пишет во второй статье:
«…Красота нужна для исполнения добра в материальном мире, ибо только ею
просветляется и укрощается недобрая тьма этого мира». Таким образом, Соловьев
отводит красоте ключевое значение, связывает эстетические представления с
моральным совершенством мира.
В 1894 году в «Вестнике Европы» вышла одна из известнейших его статей
«Первый шаг к положительной эстетике». В ней Соловьев, по его же признанию,
«защищал» известный труд Н. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к
действительности». Статья была очень важной для сторонников утилитаризма в
искусстве. «Естественно, что выступления Соловьева, - пишет Никитина М.А., - против
новейших сторонников “чистого искусства” не означало совпадения его взглядов с
эстетикой великого русского революционного демократа. Необходимо помнить, что
эта статья представляет собой один из “кирпичиков” возводимой Соловьевым
собственной эстетической системы… Но для “Вестника Европы” было достаточно, что
во время возрождения тяги к “чистому искусству” в работе “Первый шаг к
положительной эстетике” содержалась похвала Чернышевскому, олицетворявшему для
редакции общедемократические идеалы 60-х годов».
Соловьев действительно положительно отзывается о Чернышевском, хотя и
подчеркивает, что его работа имела много недостатков. Он пишет: «Отвергнуть
фантастическое отчуждение красоты и искусства от общего движения мировой жизни,
признать, что художественная деятельность не имеет в себе самой какого-то
особого высшего предмета, а лишь по-своему, своими средствами служит общей
жизненной цели человечества - вот первый шаг к истинной положительной эстетике.
Этот шаг в русской литературе сделан около сорока лет тому назад автором
эстетического трактата, который (вместе с другими, менее важными, но так же не
лишенными интереса этюдами того же писателя) весьма кстати перепечатан был
именно теперь - ввиду возрождения у нас эстетического сепаратизма. Желая
указать положительное значение и заслугу этого старого, но не устаревшего
трактата, я вовсе не закрываю глаза ни на многие его частные недостатки, ни на
общую неполноту представляемого им воззрения. В свое время многие были уверены,
что автор “Эстетических отношений искусства к действительности” сказал
последнее слово в этой области. Я так далек от подобной мысли, что утверждаю
как раз обратное: он сказал вовсе не последнее, а первое слово истинной
эстетики». Таким образом, Соловьева можно смело принимать за представителя
старого поколения, который разделял их взгляды на искусство. Однако многие
исследователи связывают имя Соловьева с новым направлением. Так, Сарычев В.А. в
своей работе в трудах Соловьева находит истоки русского модернизма; Ермилова
Е.В. тоже считает философа одним из провозвестников символизма - она указывает
на явную двойственность его философии - что, с одной стороны, он подчеркивает в
искусстве самоцельное значение красоты (что в целом было свойственно именно
модернистам), а с другой, он налагает на красоту определенные обязанности -
служить благу и добру; наконец, Воскресенская М.А. видит в Соловьеве
своеобразного «апостола» символизма. Мы согласны с ними в том, что у Вл.
Соловьева и модернистов было много схожего (вспомним уже упоминавшуюся нами поэзию
Соловьева), но все же, на наш взгляд, отнести его к модернистом было бы
неверно.
Известный литературный критик К.В. Мочульский в своей работе «Владимир
Соловьев. Жизнь и учение» подчеркивает значение философа для русского
символизма: «Соловьев подготовил блестящий русский Ренессанс конца XIX - начала ХХ века; он был предтечей
возрождения религиозного сознания и философской мысли, вдохновил своими идеями
целое поколение богословов, мыслителей, общественных деятелей, писателей и
поэтов… Его мистические стихи и эстетические теории определили пути русского
символизма, “теургию” Вячеслава Иванова, поэтику Андрея Белого, поэзию
Александра Блока». Но вместе с тем Мочульский замечает, что философ так никогда
и не избавился от нигилизма и влияния идей 60-70-х годов в своем творчестве. Не
смотря на то, что многие идеи Соловьева в дальнейшем будут восприняты
символистами, сам философ никогда не относил себя к новому направлению. По
мнению Мочульского, Соловьев находил такое родство с декадентами
компрометирующим. На наш взгляд, нет ничего удивительного, что многие взгляды
Соловьева были схожи с идеями русских модернистов. Соловьев был прежде всего
философом, а глубокомыслящий человек никогда не останавливается в своем
духовном развитии, он пришел к некоторым эстетическим принципам нового
направления, но сам этого никогда не признавал в полной мере.
Мережковский Д.С. в своей небольшой работе «О причинах упадка и о новых
течениях современной русской литературы», помимо заявления о грядущем новом
направлении в искусстве, досконально разбирает взгляды на искусство
предшествующего этому новому направлению поколения. Он приводит пример
«современного типа русского журнального рецензента» - некоего г. Протопопова:
«Г. Протопопова, так же, как многих его собратьев, тревожит схоластический
вопрос: искусство для жизни или жизнь для искусства? Такой вопрос для живого
человека, для искреннего поэта не существует: кто любит красоту - тот знает,
что поэзия - не случайная надстройка, не внешний придаток, а самое дыхание,
сердце жизни, то, без чего жизнь делается страшнее смерти. Конечно, искусство -
для жизни и, конечно, жизнь - для искусства. Одно без другого невозможно…
Непраздные люди, непраздные художники никогда не спорили о таких вопросах, они
всегда друг друга понимали с первого слова, всегда друг с другом были согласны,
в каких бы разных, даже противоположных областях ни работали… Вопрос: жизнь для
красоты или красота для жизни - существует только для мертвых людей, для
газетно-журнальных схоластиков, которые не испытали живой жизни и не познали
живой красоты». Взгляд молодого автора здесь довольно наивен, но демонстрирует
неприятие символистами даже самой возможности споров на эту тему.
О своем времени и современном ему обществе Мережковский пишет: «Наше
время должно определиться двумя противоположными чертами: это время самого
крайнего материализма и вместе с тем страстных идеальных порывов духа. Мы
присутствуем при великой многозначительной борьбе двух взглядов на жизнь, двух
диаметрально противоположных миросозерцаний… Умственная борьба, наполняющая XIX век, не могла не отразиться на
современной литературе. Преобладающий вкус толпы до сих пор реалистический.
Художественный материализм соответствует научному и нравственному материализму.
Пошлая сторона отрицания, отсутствие высшей идеальной культуры, цивилизованное
варварство среди грандиозных изобретений техники - все это наложило
своеобразную печать на отношение современной толпы к искусству». Как видим,
утилитаризм или материализм автор противопоставляет т.н. «идеализму» в искусстве
- это тот же принцип чистого искусства, против которого выступали «отцы», и
которого придерживались «дети». Сам утилитаризм Мережковский называет
«убийственным для всякой поэзии». «Непростительная ошибка думать, что
художественный идеализм - какое-то вчерашнее изобретение парижской моды, -
замечает Мережковский. - Это возвращение к древнему, вечному, никогда не
умиравшему». Таким образом, Мережковский призывает не забывать что однозначных
позиций в искусстве быть не может, как то хотят доказать его оппоненты, и те
принципы, которые существуют сегодня - появились давным-давно и не стоит
приписывать их к изобретениям символистов.
Важно, что Мережковский среди первых провозвестников идеализма в русском
искусстве называет Тургенева, Гончарова, Достоевского и Толстого. О последнем
молодой автор говорит как о гениальном писателе, который сам до конца не
осознал всю важность своих творений, который себя попросту недооценил: «Он не
уверит нас, что новое сочинение о беременности нужнее людям, чем “Анна Каренина”.
Его брошюры о пьянстве и курении табака скоро отойдут в область
литературно-исторических анекдотов. Но никогда не перестанут потрясать душу
людей такие драгоценно-бесполезные страницы, как смерть князя Андрея в “Войне и
мире”, ибо воистину нужно людям только бескорыстное и бесполезное». Разумеется,
точку зрения Мережковского на свое творчество сам Толстой вряд ли разделял. Во
всяком случае, эту работу великий писатель оставил без ответа.
О необходимом контракте с народом писал еще Ф.М. Достоевский в 1876 году
в своих «Дневниках писателя». Достоевский полагал, что народ русский гораздо
лучше, чем его представляют себе высшие классы, которые видят лишь мерзости и
грязь. А для русского искусства необходима любовь к народу, ибо он подлинно
велик. И только когда мы вспомним, какова была любовь к народу у наших отцов,
мы вернемся к истинно высокому искусству: «…За литературой нашей именно та
заслуга, что она, почти вся целиком, в лучших представителях своих и прежде
всей нашей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась перед правдой
народной, признала идеалы народные за действительно прекрасные». Достоевский
призывал вернуться к истокам, к народу, так как это тот истинный путь, по
которому следует идти России: «Я очень наклонен уверовать, что наш народ такая огромность,
что в ней уничтожается, сами собой, все новые мутные потоки, если только они
откуда-нибудь выскочат и потекут». Этот взгляд разделяет, и так же отводит
огромную роль народу, Л.Н. Толстой.
В его статье «Что такое искусство?» весьма подробно представлены взгляды
старого направления. «Вызвать в себе раз испытанное чувство, - пишет Толстой, -
и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, звуков, образов,
выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же
чувство, - в этом состоит деятельность искусства. Искусство есть деятельность
человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними
знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими
чувствами и переживают их». Позднее мирискусники высказали свое несогласие с
этим тезисом. В частности Дягилев полагал, что за художественным произведением
нужно видеть творца, а не идеи, которые он пытается навязать зрителю. Но мы еще
скажем об этом подробнее.
Толстой полагает, что потеря этой важной функции искусства - способности
заражать, - вызвано потерей обществом духовности, в результате чего искусство
поменяло свое изначальное значение - служить народу, - и стало искусством
высших классов. Главное, считает Толстой, искусство должно быть понятно - и не
малой группке людей, а народу: «…Теперешние произведения искусства так же
непонятны народу, как если бы они были написаны по-санскритски. На это
обыкновенно отвечают тем, что если народ теперь не понимает этого нашего
искусства, то это доказывает только его неразвитость, что точно то же было со
всяким новым шагом искусства. Сначала не понимали его, а потом привыкали к
нему». Под теперешним искусством Толстой, конечно, понимает декадентство. И все
разговоры о новом направление в искусстве казались писателю просто глупостью.
Если народ понимает искусство - оно является настоящим искусством. По
мнению Толстого, только народ может быть истинным ценителем искусства и оно, в
свою очередь, должно существовать для народа: «Для огромного большинства всего
рабочего народа наше искусство, недоступное ему по своей дороговизне, чуждо ему
еще и по самому содержанию, передавая чувства людей, удаленных от свойственных
всему большому человечеству условий трудовой жизни. То, что составляет наслаждение
для человека богатых классов, непонятно как наслаждение для рабочего человека и
не вызывает в нем никакого чувства или вызывает чувства совершенно обратные
тем, которые оно вызывает у человека праздного и пресыщенного». Поэтому,
полагает Толстой, «искусство высших классов и не может никогда сделаться
искусством всего народа». Трудно отрицать правоту Толстого - и мирискусники, и
их предшественники были из интеллигенции, и основными ценителями их творчества
являлись как раз «высшие классы», как их величает Толстой. «Простому рабочему
классу» это искусство оставалось недоступным. Но модернисты в своем творчестве
часто обращались к народным мотивам и не раз призывали на страницах своего
издания не терять связь с народом.
Толстой полагает, изначально искусство было всенародным, потом искусство
деградировало и из него выделилось искусство высших классов. И сегодня
искусство высших классов обеднело, потеряло духовность, опошлилось и стало
искусством узкой группы людей, т.е. своеобразным лжеискусством, или «подобием
искусства» как его называет Толстой. Пример такого искусства как раз символизм
или декадентство: «Люди богатых классов требуют от искусства передачи чувств,
приятных им, и художники стараются удовлетворять этим требованиям. Но
удовлетворить эти требования очень трудно, так как люди богатых классов,
проводя свою жизнь в праздности и роскоши, требуют неперестающих развлечений
искусством; производить же искусство, хотя бы и самого низшего разбора, нельзя
по произволу,- надо, чтобы оно само родилось в художнике. И потому художники,
для того, чтобы удовлетворить требованиям людей высших классов, должны были
выработать такие приемы, посредством которых они могли бы производить предметы,
подобные искусству… Приемы эти следующие: 1) заимствование, 2)подражательность,
3) поразительность и 4) занимательность».
Понимание и способность заражать искусством - два главных требования к
художественным произведениям, выдвинутые Толстым. Но есть еще один критерий
отбора настоящего искусства из массы ложного. И критерий это - религиозное
чувство. Искусство, отвечающее простым христианским ценностям, есть настоящее
искусство. А то, что развращает, пропагандирует похоть и забавы - есть
лжеискусство и его нужно смело отсеивать.
Толстой говорит о великом значении искусства, что весьма характерно для
взглядов старого направления - польза и благо, которое несет искусство:
«Искусство не есть наслаждение, утешение или забава; искусство есть великое
дело. Искусство есть орган жизни человечества, переводящий разумное сознание
людей в чувство… Задача искусства огромна: искусство, настоящее искусство, с
помощью науки руководимое религией, должно сделать то, чтобы мирное
сожительство людей, которое соблюдается теперь внешними мерами, - судами,
полицией, благотворительными учреждениями, инспекциями работ и т.п., -
достигалось свободной и радостной деятельностью людей. Искусство должно
устранять насилие. И только искусство может сделать это». Положим, здесь
присутствует некий утопизм. Но люди того времени верили в это. Фактически он
возводит роль искусства в ранг государственных институтов. В начале своей
большой работы Толстой говорит о том, что на поддержание искусства в России со
стороны правительства идут миллионные субсидии, тогда как на образование
тратиться только одна сотая той суммы, которая действительно для этого
образования необходима. И в то же время сегодня искусство, полагает Толстой, не
несет никакой существенной пользы - так на что идут эти огромные деньги?
Толстой подчеркивает, что декаденты, это новое направление, никогда не
смогут изменить русское искусство в лучшую сторону, ибо они - представители
лжеискусства, они далеки от народа, они живут по принципу «искусство для
искусства», а это неправильно. Утилитаризм в искусстве и стремление к народу
могут преобразить искусство к лучшему - и больше ничего. И выход из этого
плачевного сегодняшнего состояния в искусстве Толстой видит в единстве. Если
люди вспомнят, что они - братья, то исчезнет деление на высшие и рабочие
классы, исчезнет и ложное искусство. Если у Соловьева искусство должно
облагородить действительность, сделать ее полной доброты и посредством этого
реальность станет идеально прекрасной, то у Л. Толстого искусство должно
объединить этот мир, сплотить его в братство людей.
Воскресенская М.А. в своем исследовании пишет об искусстве:
«Утилитарно-уничижительное отношение к нему, характерное для XIX века, уходило в прошлое. Никем уже
всерьез не разделялась позитивистская парадигма художественного творчества как
совершенно бесцельного и бессмысленного рода деятельности, хотя подобную точку
зрения пытался еще отстаивать Л.Н. Толстой». На наш взгляд, можно согласиться с
рассуждением Воскресенской, так как, обратившись к тому же Соловьеву, мы
увидим, что, даже не смотря на требования к искусству нести пользу, эта польза
рассматривалась Соловьевым как некий духовный заряд в отношении общества.
Толстой же требовал от искусства реальной пользы, определенного смысла в
произведениях. Подобного жесткого утилитаризма больше ни у кого не наблюдалось,
а это значит, что к концу XIX
века утилитаристские воззрения ослабевали, и хотя еще могли громко протестовать
по отношению к противоположным взглядам на искусство, реальную силу утилитаризм
потерял.
Полагаем, нелишним будет процитировать В.В. Стасова, защитника
передвижников. Здесь будет весьма примечательна его статья «Двадцать пять лет
искусства», где он говорит о столь дорогом его сердцу передвижничестве и
сравнивает его, что важно, с предшествующим поколением людей 40-50-х годов. Он
пишет об этом старом искусстве: «У него была перед глазами постоянно одна
только задача: служение красоте, отыскивание красоты, воспроизведение красоты,
игнорирование полноты живой природы и жизни и выборка оттуда только очень
немногих кончиков и материалов, потом достаточно аранжированных, “прочищенных”,
“просветленных” и “возвеличенных”. Оно сильно веровало в фантазию и поклонялось
всем странным капризам и выдумкам ее. Новое искусство выбросило все это за
борт. “Прекрасное” не стоит уже для него на первом месте: на первом месте стоит
для него жизнь и все то, “что в ней для человека интересно”. А когда так, то
высший законодатель для искусства - не школа и музей, а сама жизнь. Необозримые
области, прежде забытые или с презрением оттолкнутые вон, становятся на первое
место; бесчисленные сцены, личности, события, люди, прежде забракованные,
становятся краеугольными камнями здания». Стасов бесчисленное количество раз
цитирует Чернышевского и подчеркивает, что только жизнь и ее различные
проявления могут считаться настоящими предметами искусства.
Это представитель старого направления, который никогда, на протяжении
всей жизни не менял своих взглядов на искусство. Подтверждение этого факта
можно найти в его статье «Просветитель по части художества» 1897 года, где
Стасов, будучи возмущен предательством своего друга И.Е. Репина (во-первых, тот
ушел профессором в столь ненавистную передвижникам Академию художеств, а,
во-вторых, поначалу вполне благосклонно относился к декадентам и их взглядам),
пишет: «И с чего это взял И.Е Репин, что между существующими на свете
созданиями искусства все главные не заключают никакого содержания и
представляют собой только “искусство для искусства”? Какая жалкая, какая
постыдная клевета на род человеческий! Если бы это была правда, можно было бы,
мне кажется, пожелать, чтобы лучше вовсе не существовало никакого искусства,
чем такое пустое и ничтожное!». Как видим, в идеологическом плане Стасов
нисколько не изменился. Как замечает исследователь критики Стасова
Федоров-Давыдов А.Н., «тесно связанный с передвижничеством 1870-1880 годов как
критик, сложившийся на основе этого искусства и его принципов, Стасов не смог
впоследствии пойти дальше. Он не смог по-настоящему воспринять и понять новые
художественные явления в русском искусстве конца XIX - начала XX века… Стареющий критик в пылу полемики порою не разбирался в сложности и
противоречивости новых явлений, не видел их положительных сторон, все сводя
только к ошибочности или ограниченности». Трудно с этим не согласиться.
В заключении можно констатировать следующее. К началу 90-х годов XIX века в среде художественной
интеллигенции господствовала утилитарная точка зрения на социальную роль
искусства. Опираясь на главную работу Н. Чернышевского, критики и художники,
поэты и писатели стремились в своем творчестве отражать реальную жизнь,
старались посредством искусства учить, просвещать, пропагандировать, призывать
к пользе, благу, доброте. Огромное значение в искусстве отводилось народу, как
истинному и единственному ценителю произведений искусства. Поэтому новое
направление, едва появившись, с противоположными взглядами на искусство, было
негативно воспринято всеми «отцами» и завязалась полемика, прежде всего по
вопросу о социальной роли искусства.
Как видно из всего вышесказанного, на рубеже XIX-XX
веков в художественной жизни России возник конфликт поколений, «отцов и детей»,
двух разных направлений, в результате которого на два десятилетия затянулась
полемика по эстетическим вопросам. Но по сути, можно было наблюдать
эволюционный процесс в искусстве, когда происходит смена одного художественного
направления другим, которое тесно было связано с предшествующим. Так же можно
смело утверждать, что «дети» вернулись к хорошо забытому старому - модернисты
провозгласили служение «чистому искусству», «искусству для искусства» и тем
самым напомнили «отцам» об их предшественниках, которые тоже выступали за этот
принцип в искусстве и которых «отцы» в свое время победили, призвав к
утилитаризму в эстетике. Таким образом, новое поколение возникло в среде
негативно настроенного к нему старому направления, которое убеждало их не
отказываться от их наследия и взглядов на искусство, и продолжать начатое ими
дело. Но модернисты предпочли идти своим путем.
ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ НА ПРИМЕРЕ
МОДЕРНИСТСКИХ ЖУРНАЛОВ
На рубеже XIX-XX столетия в русской культурной
художественной среде возникло новое направление - символизм. Пользуясь
определением Воскресенской М.А., русский символизм - это «сложившееся на рубеже
XIX-XX веков в среде культурной элиты духовное движение
неоромантического характера, …базировавшееся на идеалистических философских
основаниях и эстетическом восприятии действительности, исходящее из
представлений о многомерной структуре универсума и тотальной соотнесенности
всех его составляющих, и выдвигавшее символ в качестве основного способа
освоения (постижения и отражения) мира». Новое направление, прежде всего,
возникло в литературе и в сфере изобразительного искусства. Первый
модернистский журнал в России появился именно благодаря молодому
художественному объединению «Мир искусства». Объединение возникло в 1891 г. в
Петербурге, соединив в себе художников и литературных критиков. «Мир искусства»
был основан художественной элитной молодежью того времени - А. Бенуа, С.
Дягилевым, Е. Лансере, Л. Бакстом, К. Сомовым и другими. С 1899 г.* стал выходить ежемесячный журнал
«Мир искусства», редактируемый С. Дягилевым. Журнал был создан для
интеллигенции. Мирискусники сумели посмотреть на искусство России по-новому,
заметив ее отсталость от более развитой Европы, устарелость ее эстетических воззрений,
основанных на принципах Чернышевского, и полнейшую остановку в своем развитии
на уровне академизма и так называемого псевдо-реализма. Они понимали, что
необходимо развивать культуру России, но им было совершенно ясно, что уже
существующие направления этого делать не намерены, да и не смогут. Таким
образом «Мир искусства» решил сам вступить в борьбу с устаревшими концепциями и
взглядами, просветить Россию при помощи своего одноименного журнала и
устраиваемых ими выставок, и вывести ее на более развитый уровень, ибо С.
Дягилев был убежден в мировом значении русского искусства и ее огромном
культурном потенциале. Одновременно с этим художественная молодежь пыталась
самоопределиться, прийти к собственным твердым позициям. В 1902 году среди
модернистов возникли непреодолимые противоречия, и из журнала вышла группа
«богословов» во главе с четой Мережковских, которые в том же году основали свой
собственный печатный орган «Новый путь». Журнал «Мир искусства» просуществовал
недолго и перестал выходить в свет в 1904 году. Все меняющиеся тенденции внутри
модернистского объединения и эволюцию модернистских воззрений мы можем
проследить на примере журнала «Мир искусства», а так же увидеть дальнейшее
развитие русского модерна при изучении журналов «Весы» и «Золотое руно»,
которые во многом соответствовали традициям, заложенным «Миром искусства».
.1 ВОПРОС КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ПУБЛИЦИСТИКЕ «МИРА ИСКУССТВА»
Прежде чем приступить к исследованию, необходимо разобраться с терминами.
Новое направление в печати и, позднее в исследовательской литературе, называли
по-разному. Наиболее часто - декадентами, символистами, модернистами. В чем
различия и где сходство? Воскресенская М.А. в своей работе «Символизм как
мировидение Серебряного века» разграничила эти определения. «…Декаданс - это
комплекс определенных умонастроений, символизм - литературно-художественное
направление, а модерн - стиль, объединяющий различные виды пространственных
искусств». Все эти термины пришли из Франции и были связаны с французскими
символистами. Декаданс - это время упадка, царившее во Франции в 80-е гг. -
время появления нового французского направления в искусстве, символизм - это
само направление, а модерн - это стиль, которого символисты придерживались. Ко
времени возникновения символизма в России, во Франции это направление клонилось
к своему закату. Многие позже обвиняли русских символистов в том, что те просто
переняли французские увлечения и названия, и ничего русского это направление не
содержит, но это было не так. В русском искусстве символизм обрел новое
рождение, и все название, которыми обозначали это направление - сами модернисты
или их противники, - вполне отражали и русское новое направление. Поэтому мы
позволим себе пользоваться всеми тремя понятиями, хотя сами предпочитаем название
«модернисты», ибо это были, прежде всего, художники, верные стилю «модерн».
«Тот, кто идет за другими, никогда не опередит их». Эти слова
Микеланджело С.П. Дягилев вынес в эпиграф своей первой и одной из главнейших
статей в журнале «Мир искусства». И эпиграф этот, возможно, лучше других слов
выражает главное стремление мирискусников - идти своей дорогой, даже если
другой путь, проторенный ранее предшественниками, более удобен.
Вообще, как свидетельствуют воспоминания А. Бенуа, и о чем упоминает в
своей статье Г.К. Щенников, статья была написана не одним Дягилевым, а в
соавторстве, или вообще целиком, Д. Философовым. Щенников указывает на большое
количество видимых или скрытых ссылок на Достоевского, идеи которого очень
почитали мирискусники и особенно Д. Философов, в то время как Дягилев вообще
был равнодушен к литературе. Здесь нужно сказать о существующей связи
символистов с Достоевским. Уже упоминаемый нами критик К.В. Мочульский приводит
в своей работе о Соловьеве мнение философа, что Достоевский является предтечей
русского «нового духовного искусства», и, более того, Соловьев был убежден, что
идея Достоевского о духовной миссии России - нести новое религиозное сознание в
мир, - должна осуществиться на рубеже XIX - ХХ веков. Соловьев подчеркивал, что в это время начинается эпоха
распространения русской культуры повсюду. На наш взгляд, идеи Достоевского во
многом действительно привлекали новые направления, и они часто обращались к
ним. В частности Дягилев и Философов цитируют его в первой статье журнала «Мир
искусства», и в дальнейшем в различных публикациях мирискусников мы можем найти
много ссылок на Достоевского.
Вопрос о наследии является центральной проблемой статьи, потому что
наследие, по мнению авторов, выступает некоторой прямой, от которой идет формирование
их собственных художественных убеждений. Речь идет о культурном наследии,
доставшимся молодым художникам от богатого по творчеству XIX века: «…Как разобраться в
непроцеженном и хаотическом достоянии, полученном от наших отцов, когда одной
оценки или лучше переоценки бесчисленных унаследованных сокровищ хватит на
целую жизнь нашего поколения?».
Дягилев и Философов хотели сразу объяснить, что их поколение, их «Мир
искусства» отличается от всего, что было прежде. Молодые художники и литераторы
громко заявляли о себе, утверждая, что России необходимо узнавать о новейших
тенденциях в западном искусстве и тем самым развивать свое искусство. Взгляды и
идеи молодых художников во многом противоречили устоявшимся в искусстве
эстетическим воззрениям представителей художественной интеллигенции.
В своей программной статье Дягилев и Философов ставят вопросы:
- Каким должно быть отношение к традициям?
- Что в них искать? Только то, что созвучно личному опыту?
«Мы больше и шире, - пишут Дягилев с Философовым, - чем кто-либо и
когда-либо любим все, но видим все через себя, и в этом, лишь в этом одном
смысле, мы любим себя». Они, появившись, не стали примыкать к любому из
существующих течений, а создали свое, где попытались по-новому взглянуть на
все, что было до них, чтобы затем сделать что-то новое в будущем. Но были
восприняты обществом, публицистами, критиками, большей частью мыслящей
интеллигенции лишь как декаденты, как символизирующие упадок той богатой
культуры, которая существовала до них на протяжении XIX века, «Золотого века» русской культуры. «Но мне
хочется спросить, - насмешливо замечает автор статьи, - где же тот расцвет, тот
апогей нашего искусства, с которого мы стремительно идем к бездне разложения?
Заглянем несколько страниц назад и посмотрим, что оставили нам те, которые так
смело объявили наше падение… Они оставили нам век, весь состоящий из мозаики
противоречивых и равноценных направлений, когда школы дрались со школами и
поколения с поколениями, когда сила и значение целых направлений определялись не
эпохами, а годами… Где то возрождение, упадком которого являемся все мы?..».
Дягилев и Философов дают понять, что все не так безоблачно и достойно
было в этом «Золотом веке», который их оппоненты так возвеличили. Да, были
гении, были свершения, были те продукты творчества, которые останутся на века.
Но вместе с тем развитие культуры пошло не тем путем, каким должно было.
Множество направлений и течений, которые должны были сменять друг друга,
существовали все вместе, в одно время, боролись, но не уходили. «Эта
амальгамная история художественной жизни века имела главный источник в ужасной
шаткости эстетических оснований и требований эпохи. Они ни на минуту не
устанавливались прочно, не развивались логично и свободно. Художественные
вопросы были запутаны в общую кашу общественных переворотов и вышло то, что
такой независимый талант, как Пушкин, в течение каких-нибудь тридцати лет
должен был выдержать три совершенно разные оценки: материалистические обвинения
Писарева, славянофильские превозношения Достоевского и субъективно-восторженный
суд Мережковского». Впрочем, к Пушкину мы еще вернемся позднее.
Именно в этой статье были расставлены главные акценты предстоящей борьбы
с предшествующим поколением, которую они, конечно, предвидели и, вполне
возможно, даже стремились к ней: новое поколение - это дети, которые стремятся
делать все иначе, чем их отцы - старое поколение. Эта проблема «отцов и детей»
вечна. Она подобна закону эволюции - так же неизбежна, как неизбежен и конец
этой борьбы - дети побеждают отцов. Хотя победа эта временна - вскоре они сами
превратятся в отцов, и столкнуться с другими детьми - и, конечно, проиграют им.
«Как можно не понять такой простой загадки, которая ясна даже для малых детей,
- вопрошают Дягилев с Философовым. - Все названные группы и течения развивались
каждое само по себе и совершили полный эволюционный путь. Они достигли все
своего апогея, дали нам Давида, Виктора Гюго, Флобера и многих других и
завершали навсегда круги своего существования. Наконец явились мы со своими
запросами и, верьте мне, если б мы были хоть каплю похожи на наших
предшественников, будь мы даже упадком, они бы с радостью простили нам и
отечески прижали к своей груди. Но именно того нам и не могут простить, что мы
не продолжаем их, что декадентами их возрождения оказались они же сами,
плачущие о своем падении, и жаждущие построить вновь свое разрушенное здание на
вымерших и перегнивших идеях». Модернисты подчеркивают, что они ни в коем
случае не отрицают того, что было сделано до них в искусстве. Они переоценивают
эти свершения. Но их принимают за отрицателей. Вспомним здесь Стасова В.В.,
который в своих статьях буквально кричал о том, что декаденты стремятся
уничтожить все, построенное ими, предыдущим поколением.
Авторы статьи даже разделили своих «врагов» на группы:
- Декаденты классицизма, «самые ветхие, а потому и неисправимые враги»;
- Декаденты - романтики, «страшные враги, потому что имя им
легион»;
Декаденты реализма, «скучные враги, все еще мнящие о бодрости
своих размякших мускулов и о современности своих затхлых истин».
Первые две группы - это, безусловно, представители столь ненавистного
мирискусникам академизма, а третья - это передвижники и литературные критики,
ополчившиеся на молодое направление, едва оно появилось.
В конце концов, Дягилев с Философовым делают вывод, что упадка как
такового нет, и быть не может, потому что «не с чего падать, потому что для
того, чтобы провозгласить падение, надо было раньше создать великое здание, с
которого возможно было бы нам низвергнуться вниз и разбиться об камни его». Но
такого здания не существовало.
Мы видим, что первая часть этой важнейшей статьи модернисты посветили в
целом доказательству того факта, что они ни в коем случае не являются
декадентами - то есть представителями ущербного направления, порожденного общим
состоянием упадка в искусстве. Это убеждение отстаивали их главные оппоненты,
среди которых, прежде всего, выделялся Л.Н. Толстой, называвший символизм
лжеискусством, возникшим в результате деградации искусства.
Далее следует продолжение статьи, но под новым заголовком «Вечная
борьба», где Дягилев излагает основные воззрения на эстетические вопросы со
стороны мирискусников.
Дягилев пишет о вечной борьбе, которой уже, по меньшей мере, лет сто,
между утилитаристами и приверженцами принципа «искусство ради искусства».
Последний принцип был близок мирискусникам, которые отрицали измерение
искусства по степени пользы. Дягилев полагает, что борьба по-прежнему
существует лишь потому, что «с дурными привычками трудно расстаться», имея
ввиду, конечно, предыдущее поколение, которое уже много лет цепко держится за
утилитарные концепции.
Дягилев выступает против отведения творцам искусства роли послушных
учеников противохудожественной теории социализации искусства, как это было у
Чернышевского. По мнению Дягилева, эстетика Чернышевского еще не переварена
русским обществом, и последователи утилитаристов требуют, чтобы искусство
давало рецепты «от всех грязных болезней божественной цивилизации». Напомним,
что Чернышевский действительно очень чтился представителями старой гвардии -
Вл. Соловьев даже посвятил этому вопросу целую статью, где доказывал
современность взглядов Чернышевского.
Дягилев отрицает идею о том, что искусство, не отвечая требованиям
общества, порождает безнравственность. Прежде всего, здесь имеется ввиду работа
Л. Толстого «Что такое искусство?», которая возмутила модернистов. И Дягилев
выступает против тезиса Толстого, который «требует от творчества религиозного и
общественного служения», упражнения в добродетели. Важно, что Дягилев не
отвергает социальной роли искусства: «Кто может отрицать общественное значение
искусства, эту старую и неоспоримую истину; но требование отзывчивости
искусства на наши занятия, заботы и волнение - это очень опасная вещь и мне
невольно припоминается когда-то читанная мною заметка, которая упрекала наше
искусство в неотзывчивости к таким пережитым нами народным бедствиям, как голод
и холера». То есть не стоит возводить все в абсолют, это будет казаться и
смешным, и нелепым одновременно.
Дягилев утверждает, что искусство должно развиваться, порождать новые
формы, а не пытаться оставаться в тисках старых - то есть искусство должно быть
свободно, не пытаться что-то пропагандировать или к чему-либо склонять:
«Великая сила искусства заключается в том, что оно самоценно и главное -
свободно. Искусство не может быть без идеи, как оно не может быть без формы и
без краски…». Автор подчеркивает, что должно происходить соединение идейного и
художественного восприятия в творении. И здесь поднимается вопрос о роли творца
искусства. «Идеи, - пишет Дягилев, - конечно, должны зарождаться в зрителе при
виде творения искусства, но они не должны быть богохульно втиснуты в него
творцом. Творец должен любить лишь красоту и лишь с нею вести беседу во время
нежного, таинственного проявления своей божественной природы».
Дягилев видит природу основным источником красоты, источником, из
которого можно черпать вдохновение бесконечно. Он ссылается на известного
английского критика и писателя Джона Рескина, который проповедовал ту же идею,
но, по мнению Дягилева, впал в редкую крайность - Рескин утверждал, что
художник, обращаясь к природе, должен брать у нее все, ничего не отбрасывая, не
выделяя, не урезая. В этом моменте Дягилев резко критикует английского
классика: «Мы требуем от искусства выделение характерного, видового,
индивидуального, конечно, не с точки зрения положительных, объективных тезисов
и застывших на своей “абсолютной правильности” теорий, но с точки зрения данной
личности творца. Именно в этом отражении идей и явлений на натуру художника для
нас состоит интерес к художественным произведениям». Дягилев замечает, что в
силу своего возраста, почтенный критик Рескин оказался не прав и в ряде других
вопросов, например, в вопросе техники художников, и сравнивает его с
Чернышевским - оба отрицали самостоятельное значение искусства; сравнивает его
с Л. Толстым - оба не воспринимали современную культуру, считая ее уродливой и
стремясь приучить ее к полезности и добродетели.
Дягилев стремился показать, какой взгляд на искусство, на роль художника,
на место человека в искусстве имели авторы «Мира искусства». Эта большая
статья, состоящая из четырех самостоятельных частей, которые можно было бы
рассматривать как отдельные статьи, была, по сути дела, своеобразным манифестом
мирискусников, в котором они не только заявили о себе, но и дали ответ на
многие обвинения и упреки в свой адрес со стороны представителей предыдущего
поколения.
В последней части статьи, в «Основах художественной оценки» Дягилев
раскрывает свои идеи касательно критики, оценки художественных произведений. Он
выдвигает два требования для попытки определения своего отношения к
произведению искусства. Во-первых, при оценке необходимо попытаться увидеть
личность того, кто сотворил художественное произведение: «Красота в искусстве
есть темперамент, выраженный в образах, причем нам совершенно безразлично,
откуда почерпнуты эти образы, так как произведение искусства важно не само по
себе, а лишь как выражение личности творца; история искусств не есть история
произведения искусств, но история произведения человеческого гения в
художественных образах». Он привел пример, что в Египте, Греции, в средние века
личность человека не афишировалась и нам неизвестно многих имен, создавших те
произведения искусства, которые характеризуют эти страны и их историю. Но то
было другое время, тогда сама эпоха характеризовала искусство и этого было
достаточно. Но сейчас совсем другие времена. «Мы, прежде всего, жаждущее
красоты поколение, - замечает Дягилев. - И мы находим ее всюду, и в добре, и в
зле». И в эту эпоху они ищут в красоте оправдание человечеству, а в личности
ищут высочайшее проявление этого оправдания. Здесь Дягилев вновь возражает Л.
Толстому. Для модернистов в искусстве важен был сам человек в его личностном
проявлении, а не человек, как часть народа. Напомним, что Толстой настаивал на
том, что искусство должно служить народу и, с его помощью народ должен
объединиться. Речь идет о едином организме - народе, а не о разделении этого
народа на личности.
Второе требование заключалось в том, что зрители должны отождествить себя
с творцом художественного произведения, и тогда они полнее поймут его творение.
Здесь мирискусники подняли проблему «художник - зритель» Речь идет о
коммуникативной роли искусства, которая осуществлялась через взаимодействие личности
творца и личности зрителя. Это сфера социологии культуры, хотя сами модернисты
теоретически эту идею не разрабатывали. «Полное наслаждение, восприятие
произведения искусства, кроме созерцания проявления личности, заключается не в
забвении собственного “я” в сфере высших ощущений, не в претворении моего
существа, но, наоборот, в нахождении личности моей в личности художника, в
соответствии солидарности моей с творцом…». Когда человек находит, что в
таком-то художественном произведении его создатель будто бы точно угадал мысли
этого человека, или его мечты, идеи, то это позволяет человеку прочувствовать
это произведение полностью, и не ошибиться в выводах насчет него.
Важно, что Л. Толстой в своей работе высказывался тоже по этой проблеме.
Он говорил о необходимой связи художника со зрителем: «Более всего
увеличивается степень заразительности искусства степенью искренности художника.
Как только зритель, слушатель, читатель чувствует, что художник сам заряжается
своим произведением и пишет, поет, играет для себя, а не только для того, чтобы
воздействовать на других, такое душевное состояние художника заражает
воспринимающего, и наоборот: как только зритель, слушатель, читатель чувствует,
что автор не для своего удовлетворения, а для него, для воспринимающего пишет,
поет, играет и не чувствует сам того, что хочет выразить, так является отпор, и
самое особенное, новое чувство, и самая искусная техника не только не
производит никакого впечатления, но отталкивают». По сути, мысль общая, только
Толстой использует ее в своих целях, доказывая необходимость «заразительности»
искусства и связи его с народом.
Дягилев поднимает проблему роли и места критики в оценке искусства. И
дает картину той критики, которую мирискусники считают правильной - он приводит
пример древних греков, средневековых критиков, когда критик восхвалял художника
и об этом творце сочиняли сонеты, прославляли его: «Разве не в этом весь
принцип критики, разве можно лучше, красивее и художественнее отнестись к
художественному произведению? Мне кажется, что надо именно воспевать искусство,
надо торжественно встречать всякое новое проявление таланта, а гимны петь можно
только от безграничной радости и необъяснимого личного восторга. И отнюдь не
отрицая значение и пользы так называемой научной критики, я должен все же
напомнить, что научное отношение к искусству, желание сделать из критики науку,
никогда не разрешит вопроса об относительной ценности таланта». Впрочем,
Дягилев понимает, как далека от подобных идеалов русская критика. К этому
вопросу мы еще вернемся ниже. Примечательно, что Л. Толстой в своей статье «Что
такое искусство?» выразил похожий взгляд на критику. Напомним, что современных
ему критиков он считал бесполезными и даже вредными для творчества.
Пока же Дягилев поясняет, что именно исходя из указанных выше принципов
художественной оценки они, мирискусники, склоняются к такому художественному
направлению, как модернизм. Из этого положения о принципах «вытекает наша
страсть к “модернизации”, т.е. совершенно одинаковое отношение к современности
и истории. Кто упрекнет нас в слепом увлечении новизной, и в непризнании
истории, тот не имеет об нас ни малейшего понятия». Он объясняет, что
мирискусники воспитаны на Бахе, Шекспире, Джотто, и новые философы и художники
равно ценимы ими, как и эти первые трое. «Отрицая всякое понятие авторитета, мы
самостоятельно, с собственными требованиями подошли и к тем, и другим. Мы
окинули историю взглядом современного, личного миросозерцания и преклонились
только перед тем, что для нас более ценно… Мы слишком уважали искусство, чтобы
в нем принять что-либо на веру из боязни, что оно не выдержит нашего
“бесшабашного” суда. Мы слишком любили его, чтобы относиться к чему-либо с
точки зрения авторитета или истории. Во всем нашем отношении к искусству мы,
прежде всего, требовали самостоятельности и свободы, и если мы себе оставили
свободу суждений, то творцу мы давали полную свободу творчества. Мы отвергали
всякий намек на несамостоятельность искусства, и поставили за исходный пункт
самого человека, как единственно свободное существо. Все возможные рамки должны
быть удалены». Новый взгляд на все - вот основной принцип мировоззрения
деятелей «Мира искусства». И тут надо понять ту тонкость, которую пытается
донести Дягилев: они не отрицают, по сути, ничего из великого художественного
прошлого России, они просто по-новому взглянули на все, что было, и составили
собственное мнение обо всем, не слушая традиционные отзывы, общепринятые
суждения и обвинения в декадентстве. Они стремились облагородить русское
искусство. И в этом их модернизм, их новаторство, их самостоятельное
направление.
Наконец, Дягилев поднимает вопрос о Европе, европейской культуре, столь
горячо чтимой мирискусниками. Он поднимает проблему соотношения национального и
интернационального в искусстве. Мирискусники считали, что им необходимо
знакомится с западным искусством, западной публицистикой и европейскими
новинками для того, чтобы понять, как отстала Россия от Европы в плане
художественного развития, и чтобы осознать, как ей подняться до уровня своих
более развитых западных соседей. В их обращении к Западу, как это ни
парадоксально, раскрывается их патриотизм. Облагородить искусство России за
счет знакомства и усвоения уроков Европы - это патриотические цели и
стремления. «Многие говорят, - пишет Дягилев, - что нам не надо Запада, что он
губит в нас именно эту сокровенную нежную сторону*, что он слишком вторгается в нашу
жизнь со своими сладкими, ароматными плодами. Это неверно, это глубоко неверно.
Вы можете понять, кто вы только тогда, когда увидите, каковы другие. Необходимо
всосать в себя всю человеческую культуру, хотя бы только для того, чтобы
отвергнуть ее потом. Настоящая русская натура слишком эластична, чтобы сломить
ее под влиянием Запада…». Дягилев утверждает, что это понимали все наши
известные, одаренные деятели - Пушкин, Толстой, Чайковский, Тургенев. И
отрицать Запад, отказываться кое-чему учиться у него - неправильно.
Такова в целом характеристика Дягилевым нового поколения, представителем
которого он сам является. Исследователь объединения «Мир искусства», Лапшина
Н.П. замечает, что эта статья Дягилева «отнюдь не принадлежит к крупным
явлениям в области теории искусства, она носит даже несколько дилетантский,
недостаточно профессиональный (в отличие от писаний Бенуа) характер, но
представляет для нас интерес своей программностью, а так же тем эффектом,
который она произвела при своем появлении». Безусловно, мы так же не намерены
отрицать некоторую наивность и простоту подходов Дягилева в этой статье, но мы
согласны с Лапшиной о значении этой работы.
Мирискусники скептически относились к своим оппонентам - представителям
старой школы художников - передвижникам. Передвижники или Товарищество
передвижных художественных выставок появились в 70-е гг. XIX века и было тогда новым
художественным объединением не лишенных дарования людей. Как пишет
исследователь художественных объединений конца XIX века Петров В.Н., «в 1880-х годах их живопись
достигла вершин. В ту пору едва ли не на каждой из передвижных выставок
появлялись шедевры». Суриков, Репин создавали свои лучшие картины в это время,
и передвижничество стало очень популярно в российском обществе. «Но
необыкновенное напряжение творческих сил передвижничества уже в этот период, -
пишет Петров, - начало исподволь слабеть и склоняться к упадку, пока еще почти
неприметному для современников. Освободив передовое русское искусство от
мертвенного груза академических традиций, обратив живопись к темам и образам
окружающей действительности и создав последовательно-реалистический
художественный метод, передвижники выполнили стоявшую перед ними огромную
социально-историческую задачу. К 1890-м годам передвижничество перестало быть
новаторским течением и близилось к завершению круга своего развития».
Когда появилось объединение «Мир искусства», художникам, входящим в него,
сразу стало ясно, что передвижничество ушло в прошлое и то, что они делают
сегодня - это повторение того, что они делали и тридцать лет назад. Но
передвижники не исчезли, как этого можно было бы ожидать от отжившего
направления. Они продолжали устраивать выставки, их продолжала посещать
публика, а критики печатали хвалебные статьи. Именно это и возмущало
мирискусников. В 1902 году в «Мире искусства» вышла статья «Передвижническое
начало в русском искусстве», где мирискусники попытались проанализировать
причину и историю передвижников. С. Яремич описал вначале пагубное влияние на
искусство в целом такого явление как энциклопедизм, который в середине XIX века добрался и до России. Именно
энциклопедисты и, в частности, Д. Дидро, заявили об утилитарности искусства, и
эта идея была подхвачена Европой, а затем и Россией. В России в это время царил
академизм в живописи и единственная положительная черта этого течения - это то,
что они были хранителями «чистого искусства», стиля хоть и механического, но
выдержанного в смысле формы. «В эпоху расцвета нашего энциклопедизма в 60-е гг.
XIX столетия, авторитет академии, не
выдержав напора утилитаризма, падает окончательно и под покровительством ярых
неофитов “реальной критики”, заменивших теперь старых академических менторов,
возникает общество художников псевдо-реалистов, известных больше под именем
“передвижников”. Ничтожная и в полном смысле примитивная специальная
подготовка, отсутствие стремления к техническому совершенству, рабское желание
подделаться под вкусы невежественных покровителей - вот отличительные признаки
русской псевдо-реалистической школы…». Характерной чертой жалкой роли искусства
в этот момент Яремич называет появление труда Чернышевского «Эстетические
отношения искусства к действительности» и пояснительных статей В. Стасова к
картинам передвижников. Впрочем, мирискусники никогда не отрицали, что
некоторые художники, примкнувшие к передвижному течению, были талантливы: это
Репин, это Суриков, это Петров и Прянишников, идущие по пути Васнецова, и еще
несколько других. «Но два, три, даже пять крупных имен не составляют искусства,
- замечает Яремич, - они только еще больше подчеркивают то страшное убожество и
тот низкий уровень, неизгладимая печать которого лежит на всем остальном
искусстве данного периода».
Яремич негодует на тех критиков, которые видят в передвижниках народное
искусство, а так же не согласен с теми, кто говорит об упадке в рядах
передвижников. «Говорить так, значит, не иметь никакого представления о том,
что такое передвижничество… потому что направление, отрекшееся от всех
художественных преданий, зиждущее свои основания на дилетантизме, в
действительности не может ни развиваться, ни падать, ни возрождаться.
Передвижничество как направление - это бесформенная гидра, для которой ничего
не значит потеря одной головы, все равно вырастет новая, и не одна, не две, а
сколько угодно». Яремич подчеркивает падение общего уровня русского искусства
из-за этого течения, и если бы в обществе не начали ощущаться перемены, отход
от этого течения, то «можно было бы прийти в отчаянье за судьбу будущего
русского искусства».
Это негативное отношение к передвижникам возмущало их приверженцев.
Поэтому с самого начала, после появления «Мира искусства» передвижники встали в
оппозицию к новому объединению и их журналу, и так никогда и не нашли с ними
общий язык.
Более подробно понять взгляды мирискусников на утилитаризм в искусстве
нам позволит статья В. Гуреева. Он писал об идеалистах и реалистах. Первые
идеализировали действительность и в своих художественных произведениях
стремились приукрасить реальность. Вторые, наоборот, стремились к максимально
правдивому изображению действительности, не желая искажать реальность жизни.
Гуреев замечает, что Писарев, таким образом, отстаивая принципы реалистов, впал
в опасную крайность и дошел до отрицания самого искусства. Реалисты в итоге
пришли к выводу, что посредством искусства не только можно, но и нужно
воспитывать общество, изображая полезные и высоконравственные идеи в своем
творчестве. Гуреев против такого отношения к искусству. «Исправление
нравственности вообще не может быть поставлено целью искусства, хотя бы потому
что некоторые искусства по самому существу совершенно не в состоянии
удовлетворять этому требованию. Таковы - архитектура и музыка. Правда, так называемая
реалистическая поэзия задается этой целью, так как она нередко прибегает к
изображению нравственного соотношения, этических конфликтов и борьбы
разнородных характеров, но в результате получается мораль довольно банальная, и
уже, конечно, далеко не художественная». Конечно, мирискусники не понимали, как
можно искусство, которое зависит от вдохновения, от мыслей и переживаний
творца, от каких-то высших идей, подчинить принципу пользы и заставить работать
в качестве утилитарных иллюстраций жизни общества. «…Действительность сама по
себе, - пишет Гуреев, - есть действительность объективная, и как таковая не
только не входит в сферу искусства, но даже и в область человеческого знания
вообще. Очевидно, что задачей искусства является только изображение наших
понятий о действительности, но не самой действительности, так сказать,
действительности субъективной. Отсюда ясно, что реализм, в строго научном
смысле этого слова, уже по самому существу совершенно немыслим в искусстве».
Таким образом, деятели «Мира искусства» замечали, что те приверженцы
утилитарной концепции, что существовали в среде интеллигенции, и те же
передвижники были далеки самому искусству, и заявлять об обратном просто не
состоятельно. Реализм и искусство - разные вещи, не связанные между собой.
По сути дела, и С. Яремич, и В. Гуреев развили в конкретных сферах идеи
программной статьи Дягилева. Это показывает, что первое время мирискусники
более-менее придерживались заявленной ими программы.
В журнале систематически печатались теоретические статьи, где
мирискусники или высказывали собственные взгляды или печатали заметки с очень
близкими им самим идеями. Таковой, например, была статья Германа Бара
«Художники и критика», которую поместили в первый год издания журнала. Бар
писал об общественности и художниках: «…У публики есть скрытое художественное
чутье, но его нужно пробудить и проявить. У художников много силы, но они не
дерзают ее высказывать, и она остается под спудом… Искусство должно резко
ударять по всему обыденному, дразнить и привлекать. Все находятся в спячке и
придерживаются старых привычек: всем нравиться то, что они сотню раз видели, а
то, что выходит из обычных рамок, они порицают. Все хоть сколько-нибудь
своеобразное оскорбляет публику…». Как увидим в дальнейшем, этому утверждению мирискусники
не раз находили подтверждение, когда писали о художниках, или о выставках. Бар,
конечно, писал об австрийском обществе, но этот принцип был общим для искусства
всех стран.
Бар с иронией писал о критиках. Он привел пример художника и его друга,
которому тот показывает картину. Друг с позиции своих вкусов оценивает его
творчество и решает, что оно плохо, так как в нем нет того, что нравиться в
картинах самому другу. Художник уже больше не будет показывать своих картин
другу. И такой пример, замечает Бар, характеризует всю критику. У каждого
критика имеется свои маркизы и нечто новое, разительно отличающееся от давно
полюбившегося не вызывает ничего, кроме отрицания и советов вернуться к
привычным стилям. А критик не должен быть таким. Не должен быть хорошо
образованным, знать имена и годы жизни художников прошлого; они должны писать
не об известных авторах, а о молодых новых мастерах, которым сейчас обычно
критики уделяют по строчке в конце своих обширных статей. На примере публикаций
мирискусников о Европе мы еще увидим, как важен им был вопрос взаимоотношений
художника и критика, и высказывания Германа Бара очень точно выражали взгляды
авторов «Мира искусства».
В другом номере журнала была помещена публикация с речью профессора
фон-Чуди, директора Королевской Национальной галереи в Берлине, сказанная им на
торжественном заседании Берлинской академии художеств. Речь шла опять же о
публике и ее отношении к искусству. Он считает, что сегодня публика
многочисленна, разнородна по составу, но в художественном плане не культурна.
Она совсем иной стала после Французской революции: «На место аристократического
обществу, в традиционную систему воспитания которого входило и определенное
отношение к искусству, появилась толпа, состоящая из самых разнородных элементов,
которая, кроме того, постепенно меняется в своих составных частях и не имеет ни
времени, ни денег, ни потребности в утонченном образе жизни». Нечто подобное
происходило и в России - вопрос о массовом характере искусства поднимался и
волновал мыслящую интеллигенцию. Не обошли его стороной и мирискусники, которые
были, конечно, согласны с тезисами речи г-на фон-Чуди. Для кого должен творить
художник? Как затронуть ему те темы, которые взволновали бы и эту
необразованную новую публику? Это проблема перехода к массовой культуре.
Модернисты не могли объяснить этого теоретически и полагались в основном на
свою интуицию и обобщение на этом уровне. Но таким образом они сумели верно
угадать массовую культуру XX
века. «Духовное общение между обеими сторонами почти невозможно. В большинстве
случаев художник даже не знает, для кого он творит и вообще творит ли он для
кого-нибудь. А это очень важно. Искусство - явление социальное…». Художник
может на выставках «войти в общение» с публикой. Но главное, считает фон-Чуди,
для художника - это не гнаться за модой, которую устанавливает публика, и
творить по велению сердца, а не по заказу.
Важно, что профессор затрагивает вопрос о новых направлениях в искусстве
и, то, как им преодолеть неприятие их обществом: «Сперва по новому пути идут
более смелые и способные, подвергаясь за это насмешкам и ненависти. Но,
мало-помалу и дюжинные художники приходили с новым движением в такое же близкое
соприкосновение, как прежде с тем, которое теперь устарело. Это процесс,
повторяющийся с неумолимой последовательностью. Его можно, в лучшем случае,
задержать, но остановить нельзя. Публику особенно смущает та переходная стадия,
когда даже среди самого художественного мира противоположность старого и нового
художественного направления еще не сгладилось». То есть немецкий профессор
подчеркивал тот неизбежный закон мира искусства, который мирискусники знали и в
который очень верили - мы его уже не раз озвучивали выше - то, что новое
направление всегда не воспринимается при своем появлении старым направлением,
хотя оно связано с ним теснейшим образом. И это неприятие не означает
несостоятельность нового направления. Главное, что на примере таких статей
разных значительных заграничных деятелей они убеждали общество, что это не
просто их выдумки или надежды - это вечный закон и чем быстрее общество поймет
это, и пойдет навстречу новому направлению, тем быстрее будет развиваться
русская культура и тем скорее она поднимется на должный уровень.
В журнале мирискусники высказывали свои идеи о музеях, называя их
темницами искусства, говорили о значении многих гениев прошедшего времени для
современного им искусства, писали о важности таланта в искусстве и о разных
факторах, влияющих на художника, писали об искусстве и его формах. Модернисты
прошлись по основным вопросам искусства, везде высказывая свою точку зрения или
приводя заметки зарубежных деятелей, как правило, полностью соглашаясь с их
идеями. Они намеревались громко заявить о себе - сразу, с первых номеров. Это
заметно не только по их смелым тезисам в различных публикациях, но и по самому
журналу. «“Мир искусства” стал журналом нового типа, - пишет исследователь
Петров В.Н. - От русских журналов последней четверти XIX века он разительно отличался, прежде всего, по
внешнему виду. Он был, в полном смысле, художественным изданием… Обложка,
издательская марка, выбор шрифта, размещение иллюстраций в тексте неизменно
выполнялись рукой художника с взыскательным вкусом и уверенным мастерством. Но,
разумеется, новаторство журнала не ограничивалось его внешностью. Журнал нес
новые идеи, новую точку зрения на искусство и, в первую очередь, новые
эстетические вкусы». Модернисты учли все мелочи и предстали действительно
абсолютно новым направлением. Немаловажным для общего дела были и их личностные
отношения между собой. Как пишет исследователь символизма Сарабьянов Д.В., «это
был не только кружок единомышленников, но и объединение друзей или добрых
знакомых, часто родственников, связанных как общими устремлениями и программой,
так и личными отношениями. Этот элемент личности очень важен для характеристики
“Мира искусства”, особенно на первом этапе его развития, а тем более, в момент
создания». Из редакции, расположенной в квартире Дягилева, постоянно доносился
смех и громкие обсуждения тем следующего номера. Это заразительное,
эмоциональное состояние создателей журнала не могло не очаровывать. По словам
А. Пайман, даже враги журнала, как, например, критики «Нового времени»
поддавались этому обаянию. Подобного ранее русская журналистика не знала.
Подводя итог всему сказанному, определим главные аспекты. «Мир искусства»
был, прежде всего, объединением молодых, талантливых художников, хорошо
знакомых с искусством Запада и восхищающихся им. Анализируя культурную ситуацию
в России, они видели ее отсталость от Европы, которую будто совсем не замечала
или не понимала общественность. Они приняли решение облагородить русское
искусство, прежде всего посредством собственного журнала. Артикулируя свое
миропонимание и видение искусства, Дягилев и Философов в первых же номерах затронули
все основные вопросы полемики 90-х гг. (поколение отцов и детей, новаторство и
традиция, что такое искусство и его роль, что такое красота, роль критики) и
дали собственную интерпретацию им, выразив себя как самостоятельное течение.
Модернисты провозгласили служение «чистому искусству» и отвергли устаревшие
утилитарные эстетические воззрения. Мирискусники подчеркивали, что являются как
раз тем новым направлением, которое должно было сменить старое уже давно. Они
говорили о связи со всем культурным процессом России и о намерение творить
новое в искусстве.
.2 Отношение модернистов к европейскому искусству по материалам журнала
«Мир искусства»
Мирискусников необычайно привлекала европейская культура. Эту молодежь от
представителей художественной классической школы отличала их космополитичность
- они интересовались и в какой-то мере жили европейской культурой, уделяя ей
большое внимание в своем журнале. Не умоляя достоинств русской культуры,
мирискусники полагали, что ей еще многому стоит поучиться у Европы. Таким
образом, европейская культура ставилась создателями журнала в рамки примера,
которому следует соответствовать.
В «Мире искусства» авторы намеренно уделяли большое внимание репортажам о
загранице - статьи о европейских художниках, выставках, искусстве в целом -
присутствовали в каждом номере журнала. В результате нашего исследования мы
выяснили, что из 473 статей за все шесть лет издания «Мира искусства», русская
культура была представлена в 308 статьях, а тема европейского искусства
занимает 165 статей. Таким образом, можно сделать вывод, что Европе было
посвящено около 35% публикаций «Мира искусства». Как пишет исследователь В.Н.
Петров, «никогда еще русское общество не получало возможности так широко
знакомиться с современными творческими течениями Германии, Англии и
скандинавских странах, а так же с французским искусством XIX столетия, от Энгра, Коро и Домье до
импрессионистов и далее до Сезанна, Ван Гога и молодого Матисса».
Немаловажным нам кажется рассмотреть эти зарисовки о европейской культуре
более подробно. Целесообразнее будет все статьи о Европе объединить в несколько
общих разделов:
1. Европейские художники
2. Выставки
. Зарисовки о Европе
Прежде чем приступить к рассмотрению каждой из тем в отдельности,
необходимо отметить, какие именно страны чаще всего фигурировали на страницах
журнала для иллюстрирования европейской культуры.
Прежде всего, это Германия, что понятно, ибо в то время в Мюнхене
существовал известный салон «Сецессион», который устраивал выставки и в него
входили знаменитые немецкие художники. «Сецессион» во многом влиял и на
художников других стран, в том числе, и России.
Во-вторых, мирискусники очень ценили Францию, за тех художников, которых
подарила свету эта страна и за ежегодные выставки, проходящие в Париже.
В-третьих, Италия. Большинство так называемых путевых заметок в журнале
посвящено итальянским городам и искусству этой страны.
В-четвертых, Великобритания. Несколько статей посвящено в журнале
английским художникам, а так же представлены их картины.
Помимо европейских стран, мирискусники обращались к Востоку - японской
культуре и ее влиянию на европейское искусство. Их привлекали необычные,
отличные и от России, и от Европы формы искусства. Не оставляли они без
внимания и северные страны - в частности, Норвегию, где в это время большой
популярностью пользовались гравюры норвежских иллюстраторов, и Финляндию,
картины художников которой часто выставлялись на русских выставках.
Если говорить о Соединенных Штатах Америки, то авторы журнала довольно
негативно воспринимали эту страну, но об этом следует сказать позднее.
Таким образом, как мы видим, мирискусники делали акцент не только на
основных четырех странах Европы. Авторы статей путешествовали по городам этих
стран, посещали выставки, встречались со своими собратьями по ремеслу.
Репродукции картин иностранных художников можно обнаружить в каждом номере
«Мира искусства». По мнению В.Н. Петрова, иллюстрации «Мира искусства» иногда
гораздо нагляднее говорят об интересах модернистов, чем даже их публикации.
Но обратимся к приведенным выше разделам и попытаемся рассмотреть каждый
в отдельности.
Европейские художники.
Знакомясь со статьями о различных европейских художниках на страницах
«Мира искусства», прежде всего, бросается в глаза некоторая особенность.
Авторами этих статей были или сами художники, или художественные обозреватели,
критики. То есть они писали о том, что знали досконально, что понимали лучше
других, они писали о таких же, как они сами. Они видели их технику, их
новаторство - их особенность, чем они выделялись из общей массы художников. Но
при всем этом авторы статей помнили, что они пишут для обыкновенных читателей,
далеких от художественной среды, и потому слог авторов статей прост и доступен
широкому кругу читателей, термины употребляются мало, и тем самым читать эти
материалы очень легко.
Художников, о которых они писали, конечно, очень много. Если сделать
краткий обзор, то можно перечислить иностранных художников, появлявшихся на
страницах журнала в разное время: Пюви де Шованн, Эдуард Берн-Джонс, Обри Бердслей, Г. Моро, Фелисьен Ропс, А. Сислей, Ф. Гойя, Дж. Уистлер, Э. Дега, Дж.
Тернер, Морис Дени, Ганс фон Марэ, Арнольд Беклин, Ф. Таулоу, Ф. Ходлер, П.
Сезанн, Иосиф Израэльс, Д. Веласкес, Ганс Тома, Ж. Энгр, В. Лейбль, А.
Эдельфельт, К. Моне, О. Домье, Дж. Миллес, А. Матисс, Ж.-Б. Коро, Дж. Уоттс, Ф.
Штук, В. Ван Гог и другие. Это были художник-новаторы, наиболее яркие
представители течений.
В основном, каждому из них авторы журнала посвящали статью или обширную
заметку. Но что примечательно - каждая такая статья написана по-разному. Есть
материал, изложенный в форме биографии, есть нечто вроде описания выставленных
картин упоминаемого мастера на различных выставках, присутствуют статьи в форме
некрологов, где отмечаются лучшие работы художника, есть статьи именно о
новаторстве того или иного мастера и рассматривается его стиль. Не остается
ощущения, что читаешь об одном и том же художнике, эти зарисовки не сливаются в
одну бесконечную статью.
Большинство публикаций о европейских художниках приходиться на первые
годы издания «Мира искусства», что, в принципе, можно объяснить тем, что авторы
журнала в начале его издания, конечно, были переполнены идеями, и им хотелось
рассказать обо всем и сразу. В последние годы издания тоже встречаются подобные
статьи, но уже реже. Здесь можно вспомнить искреннее замечание А. Бенуа, что к
1904 году они «уже вполне высказались…и настолько забежали вперед, что данного…
хватит русскому обществу надолго».
Что объединяет все эти публикации о европейских художниках? Прежде всего,
практически все они, герои этих статей, были в свое время отвергнуты критикой и
обществом. Многие из них, как говориться, «ушли дальше своего времени».
Большинство художников были признаны миром лишь после своей кончины. Конечно,
мирискусников привлекали эти гении, их влекли непростые судьбы, их новаторство
в своей области. Тем более что в Европе это действительно считалось новым шагом
в живописи, в то время как в России такая новизна хоть и могла появиться, но
нескоро. По мнению Бенуа, Россия в подобных вопросах запаздывает на двадцать
лет. Это проблема вхождения нового направления (личности, метода, стиля) в
устоявшуюся среду. Именно такая ситуация сложилась в России на рубеже XIX-XX веков, и именно поэтому пример Европы был столь важен в этих
условиях мирискусникам.
«При жизни Марэ ни разу не улыбнулось счастье быть признанным, - пишет И.
Грабарь, один из лучших авторов публикаций о художниках и выставках в «Мире
искусства». - Кроме 2-3 друзей его никто не понимал. Между тем он ясно сознавал
все свое значение и чувствовал, что когда-нибудь оценят то, что создано им».
Нечто подобное мы находим и в статье Макса Либермана, известного
немецкого живописца, крупнейшего мастера немецкого импрессионизма: «Само собой
разумеется, что Дегас при появлении своем 30 или 40 лет тому назад был встречен
насмешками: вообще все личное, то есть новое в искусстве, прежде всего,
осмеивается. Публике по вкусу только та ежедневная похлебка, к которой она в
течение многих лет привыкла». Этот тезис был высказан еще С. Дягилевым: новое
входит через скандал. В конце этой статьи Либерман характеризует в целом эту
особенность всякой общественности: «Всему новому в искусстве, - по крайней
мере, в наш демократичный век, - предстоит победить два поколения: старое и
современное, прежде чем оно добьется признания. Как предшественники уже не
могут, так современники еще не в состоянии его понять». Как видим,
подтверждение того вечного закона, о котором говорил Дягилев в своей статье,
мирискусники искали на примерах европейских мастеров. Вполне возможно, что они
находили в подобных примерах и некий успокаивающий момент. Все они были
молодыми художниками, которые не желали идти старыми путями в живописи и
страстно желали найти свою дорогу. Но когда они делали что-то новое - на них
часто обрушивалась критика, не все их понимали. И эти примеры гениальных
художников, которые тоже переносили подобное непризнание, вдохновляло их и
давало силы на продолжение поисков себя.
Неудивителен так же тот факт, что мирискусники довольно прохладно
относились к критикам как таковым. Им самим они доставили множество неприятных
моментов. В статье «Художники и критика», о которой мы уже говорили, Герман Бар
пишет: «Критик должен быть учителем… Он должен проникнуть в натуру ученика,
думать его мыслями и ясно сознавать его силы… Критики, конечно, должны
отказаться от много, чем они теперь преисполнены, и приобрести то, чего им
недостает. Они должны быть немного психологами, которые, познавая себя, умеют
проникнуть в чужую душу, а так же быть более знакомыми с техникою, для того,
чтобы быть в состоянии учить каждого сообразно с его приемами, они должны
прислушиваться к другим искусствам и науке, чтобы уловить каждое новое
проявление человеческого духа. И они должны быть немножко менее историками,
погруженными в прошлое, несколько менее знатоками антикварных методов и не
носиться с готовой и неизменной эстетикой». Таковыми художники хотели видеть
критиков, своих главных судий. Но они прекрасно понимали, что такого не
случиться в ближайшее время - если такое вообще возможно. Главное, что вопросам
взаимоотношений художника и критика уделено довольно много внимания в статьях о
европейских мастерах, и в самом журнале в целом.
Примечателен случай, произошедший с Джеймсом Уистлером, американским
художником, жившим в Париже. В середине 70-х годов XIX века в Европе разразился скандал - Уистлера оскорбил
критический очерк тогдашнего крупнейшего английского теоретика искусства Джона
Рескина, и он подал на него в суд. Как пишет И. Гюисманс в своей статье об
Уистлере, Рескин «заявил по поводу некоторых картин художника … что ему
приходилось слыхать о бесстыдствах уличных бродяг, но что он никогда не мог
вообразить себе, чтобы явился шутник, требующий 200 гиней за то, чтобы
вышвырнуть горшок красок в физиономию публике. Уистлер возмутился, и, как истый
американец, затеял против критика дело, которое кончилось присуждением Рескина
к уплате одного лиарда штрафа». Этот случай показателен хотя бы с той точки
зрения, что сам суд признал критика виновным. С другой стороны, это был не
просто конфликт художника и критика, это был еще и конфликт двух поколений -
«отцов и детей». Джон Рескин, известный защитник прерафаэлитов*, был в те годы крайне негативно
настроен против всего нового, что появлялось в искусстве, и с помощью
критических статей давал об этом знать публике. Устлер же принадлежал как раз к
тому самому новому поколению, его картины не принимали на выставки в салоны,
общество их не понимало. Значительно позднее, когда Европа стала признавать
импрессионизм, признали и гениальность Уистлера. Стало ясно, что престарелый
английский критик допустил ошибку. Даже с этой точки зрения пример весьма
показателен. Возможно, сам Рескин очень напоминал мирискусникам В.В. Стасова,
который, напомним, был крайне враждебен в отношении нового направления. культурный наследие
искусство публицистика
Еще одна черта, объединяющая статьи об европейских художниках - это уже
упомянутое новаторство всех этих мастеров. Мирискусников привлекали люди,
сумевшие сотворить что-то новое, в то время как господствовали совсем иные идеалы
и сама обстановка не располагала к новшествам. Авторы «Мира искусства»
нисколько не отрицали, а, напротив, подчеркивали заслуги этих людей.
В своей статье о норвежском художнике, Карл Мадсен пишет: «Смотря на
иллюстрации Веренскольда, можно было бы подумать, что ему покровительствует
какое-то сверхъестественное существо, которое водит его ночью в горы и шепчет
там таинственные слова, благодаря которым горы раскрывают свои недра и из них
выходят все герои и героини саг, добрые и злые, появляются все скрытые
обитатели невидимого мира и сообщают художнику все, что он желает знать».
Вообще мирискусников очень привлекали художники, сумевшие передавать природу
по-новому, иначе, чем бывшие до них. Ибо по-новому взглянуть на деревья, моря,
реки, дороги и холмы очень сложно и, что и говорить, удается не каждому.
Поэтому авторы «Мира искусства» так восторгались теми, кто сумел это сделать,
поэтому они так тщательно пытались исследовать их технику, понять, каким
образом они пришли к такому пониманию природы. «Он был не только против
копирования природы, - пишет Игорь Грабарь о Марэ, - но даже против модной
погони за передачей впечатления, против импрессионизма… Лучшее, что он сделал -
это триптих “Геспериды”… Живопись этой вещи - одна из высших точек, до которых доходила
гармония красок. Описать божественную красоту этого сумеречного перламутрового
неба, переливающегося розовыми, голубыми, зеленоватыми и фиолетовыми тонами,
удивительный синий тон гор, необычный темно-коричневый тон стволов, оранжевых
апельсинов и зеленовато-серого тела я не в состоянии».
Помимо этого описывались работы художников, которые могли иначе
изображать людей, просто человека. Неважно, каким образом - в портретах или
тематических картинах. Н. Минский писал о великом Берн-Джонсе, что люди «так
удивляются и недоумевают… потому что еще не знают, что Берн-Джонс изображал не
людей, а души людей, не поверхность жизни в ее изменчивом мелькании и смятении,
а ее неизменные и спокойные глубины или высоты».
К. Бальмонт обратился к малоизвестным широкой публике офортам Франсиско
Гойи и сумел показать новаторство этого великого художника в этой сфере: «Гойя
первый из художников ясно сознал, что ужас человеческого лица заключается в его
близости к лицу звериному, что в лице животного есть определенные черты,
сближающие душу птиц и четвероногих с душой людской. Гойя артистически порывает
незримую черту, отделяющую животного от человека, он прихотливо сливает
несколько живых сущностей в одну, и каждый раз достигает впечатления чего-то
чудовищного, потому что существа, им созданные, живут, они правдоподобны, как
то, что мы видим воотчию ежедневно…».
Особое внимание уделялось художникам, сумевших прийти к чему-то новому не
только в технике, но и, например, развивающих нестандартный жанр. Как Фелисьен
Ропс. Грабарь объясняет, почему этот художник посвятил себя эротическому жанру.
Кутивший в юности Ропс использовал свои воспоминания для своих картин. «Далекий
от анекдотизма своих предшественников, иногда забавных, иногда жестоких и, во
всяком случае, всегда не без дурных инстинктов, Ропс постиг в пороке его
мистическое могущество, его роковую, подавляющую власть и запечатлел ее в
дивных образах, великих и вечных, как вечен и велик сам порок, служивший
объектом этого причудливого творчества». В этой же статье Грабарь, между
прочим, затрагивает и истории эротического жанра: «Эротическое искусство почти
так же древне, как и всякое другое искусство. История его восходит до Египта,
оно было в Греции, особенно сильно культивировалось у римлян, было очень
распространено в эпоху Ренессанса, в Италии, в Голландии, еще сильнее
укоренилось в эпоху Людовика XIV и XV во Франции, и когда в середине
нашего столетия Европе пришлось познакомиться с новым искусством - искусством
японцев, то она нашла его у последних в очень развитом состоянии». Но жанр этот
был нов для России и авторы «Мира искусства» решили познакомить читателей с
этим.
Еще одна проблема, волнующая молодую художественную элиту - это, конечно,
плагиат. Довольно сложно, придя после стольких великих художников, делать что-то
свое, новое, не стараясь подражать или заимствовать что-либо у других. Умение
художника избегать подражания очень сильно впечатляло мирискусников, и они
подчеркивали это в своих статьях.
А. Бенуа, исследуя феномен Тернера, писал: «Больше всего в нем поражает
нас полное равнодушие к плагиату, так сильно мучающее наше поколение с тех пор,
как тысячи музеев и миллионы фотографий и изданий делают его с каждым днем
неизбежнее, и с тех пор, что именно вследствие общедоступности всего этого
плагиат невозможно скрыть ни от себя, ни от других. Тернеру, как многим другим
гениям (например, Микеланджело, Рафаэлю), это было совершенно безразлично…».
Как видим, Бенуа с иронией и горечью подчеркивает свое и общее положение дел
для молодых художников их времени.
В другом своем очерке, о Морисе Дени, Бенуа вновь возвращается к этой
теме. В начале статьи он пишет: «Вот странность - картины Дени смешили меня, но
не возмущали. Талантливость подделки (в подделке я был уверен) была слишком
очевидна. Мы ли не насмотрелись за последние 10 лет на всевозможное
фокусничество?». Но к концу статьи он отвергает свое первоначальное впечатление
о молодом французском художнике: «После более внимательного изучения творений
Дени, мы пришли к заключению, что в этом оригинальном художнике нет и тени
плагиата, черты сходства его с вышеназванными мастерами гораздо проще
объясняется естественной близостью его поэтической, насквозь художественной
природы с их искусством».
Что бы не создать впечатления, что эта проблема волновала одного Бенуа,
обратимся к статье Макса Либермана о Дега. Он пишет: «Во всех его картинах
проявляется высокая индивидуальность. Дега открывает нам то, мимо чего мы
проходили тысячи раз, не замечая. Он находит золото в уличной грязи…».
Индивидуальность и отсутствие даже склонности к подражанию - вот то, что более
всего ценили мирискусники.
В последние годы издания авторы обращаются к тем художникам, которые в то
время были чрезвычайно популярны в Европе. Бенуа, в тот момент уже редактор
«Мира искусства», написал за 1903 и 1904 годы две статьи - «Картины Энгра» и
«Значение Уоттса», в которых критически рассмотрел обоих мастеров. Стараясь не
попасть в общий хвалебный тон критиков, пишущих об Энгре, Бенуа рассматривает
его творчество в целом и подмечает совсем другие работы, нежели восторженная
публика: «История живописи XIX
века немного насчитывает таких вечно-юных, вечно-интересных мастеров, как Энгр.
Однако эта прелесть его зиждется не на его картинах, за которые он и его
поклонники готовы были отдать свою жизнь, а на его портретах, которые по
странному недоразумению, сам Энгр презирал и считал чуть ли не своим позором».
Говоря об Уоттсе, Бенуа критикует художника за банальность и наивность,
но все же замечает, что и его портреты достойны большего внимания, чем все
остальные его известные работы. Как видим, мирискусники не воспринимали на веру
восторженные отзывы о популярных мастерах и предпочитали сами разобраться в их
творчестве.
Авторы не упускают из внимания и мелкие детали. Как художникам им было
хорошо известно, что восприятию картин может помешать и сама организация
выставки. В уже упоминавшийся статье о Гансе фон Марэ И. Грабарь с иронией
замечает: «Я знаю в Европе музеи и галереи, способные до такой степени
нагоняющие тоску, что много лет спустя вы не можете без зевоты о них
вспоминать. И как будто даже без особенного основания в них много хлама, но
есть зато и превосходные вещи, есть много знаменитых имен. Такие галереи, как
на грех, бесконечно велики, и, чем они больше, тем тоскливее… Идешь по мрачным,
полутемным залам и решительно теряешь надежду дойти когда-нибудь до конца. А со
стен косятся на вас недовольным видом маленькие “великие мастера” и большие
“маленькие мастера”, немцы, голландцы и итальянцы. При этом отлично сознаешь,
что у себя дома с удовольствием повесил бы любого из них на стенку и любовался
бы им и, может быть, не без скрытого кокетства, показывал бы своим приятелям. А
тут скорее бежишь мимо, только бы оббежать всех и выбраться на свежий воздух…».
Далее мы еще вернемся к значению выставок и рассмотрим статьи о них подробнее,
потому что это тоже весьма важно было для этих авторов.
В любом случае, как бы ни пристрастны и, возможно, местами необъективны
были бы авторы «Мира искусства» в своих статьях и заметках о европейских
художниках конца XIX - начала XX в., - ведь они сами выбирали, о ком
стоит написать, - они не только обозначили главные новаторские идеи в
художественной сфере и вклад тех или иных художников в мировое искусство. Они,
прежде всего, познакомили читателей России с главными европейскими именами, их
картинами, их значением. Как утверждает Н. Лапшина, художественные критики
«Мира искусства» по многим вопросам высказались впервые в русском
искусствоведении, и то, что они рассмотрели столь много нового для России о
Западной Европе - их огромная заслуга. В конце концов, просветительская
деятельность такого рода входила в планы создателей «Мира искусства». Более
того, на примере европейских художников мирискусники обозначили свои интересы,
многие свои идеи и стремления. А с этой точки зрения их статьи о европейских
мастерах перестают быть просто статьями, и становятся частью их программного
материала, где они выражали свои взгляды.
Выставки
Выставки -
это, вероятно, вторые по значению статьи о загранице после публикаций о
художниках. В художественном смысле оба этих раздела, которые мы обозначили в
начале параграфа, тесно связаны друг с другом, как две составляющих единого
целого - жизни художника
Прежде всего,
необходимо отметить, что заметки о выставках мы намерены рассматривать все,
представленые в журнале, не разделяя их только на европейские или только на
русские. Тогда мы сможем увидеть всю картину целиком, именно то, что хотели
показать мирискусники на страницах своего журнала - на каком уровне стоит
Россия, как обстоит дело в Европе, и что стоит у последней заимствовать, а что
- нет.
Для более
логичного порядка рассмотрения материала, мы намерены представить все имеющиеся
статьи о выставках в трех видах:
1. Выставки,
устроенные и посещенные заграницей
2. Выставки,
устроенные в России, представляющие работы русских художников
. Выставки,
устроенные в России, с заданной тематикой (например, выстави французского
искусства и т. п.)
А. Бенуа в
одной из своих статей определил то, в какой роли должны выступать авторы «Мира
искусства» при написании репортажей о выставке. Он считает, что они должны
давать «обзор художника и художественного критика». Полагаем, что все авторы с
этой ролью успешно справились.
В первой же
статье о выставках первого вида, устроенной в Гельсингфорсе, мы обнаруживаем
одно из главных требований к выставке от ее посетителей - она должна волновать
общество. Дягилев пишет: «Мне второй год пришлось присутствовать на vernissage’е этого гельсингфорского салона и
второй раз подметил с удивлением значение этой выставки и интерес, вызванный ею,
не только в среде самих художников, но и среди огромной публики, совершенно
непричастной к художественному миру и наполнивший зал музея в день ее открытия…
Виданы ли у нас выставки русских художников, которые волновали бы целое
общество, непричастное к искусству, и собирали бы для празднования их открытия
более сотни людей всевозможных взглядов и направлений, приходящих с
исключительной целью плотного единения во имя своего искусства…» Дягилев
полагает, что этому стоит учиться у финнов, ибо у русских такое явление вообще
редко, если возможно.
Пожалуй, это было желанием всякого устроителя выставки. Суть была не
только в том, чтобы выставка вызывала интерес - необходимо было, чтобы на ней
народ чувствовал себя комфортно. Это, как считают мирискусники, немаловажное
условия и даже более того, иногда - уже половина успеха выставки. «Это была
премиленькая выставка, - в другой статье пишет Дягилев, - и по общему
впечатлению, и по разнородному материалу, собранному на ней. Оживленные детские
лица, беготня, игрушки, постоянно во всех концах музыка, - производили
освежающее впечатление, становилось весело и уютно…».
Безусловно, мирискусники ставили Европу в некий пример России. Конечно,
последняя заметно отставала от запада. Это особенно видно по статьям о
выставках. Но было бы ошибкой полагать, что Европа была идеальна в этом плане.
Отнюдь нет. Мы часто видим репортажи, где и западные выставки не кажутся
удачными, некоторые прямо скучны, а так же встречаются мнение, что ничего
поражающего давно уже не видно. «Нет нового, в смысле - свежего усилия, - пишет
князь Шервашидзе, - новой, другой силы, других чувств и других глаз перед вечно
меняющейся, вечно повторяющейся жизнью. Здесь я не вижу творцов - людей,
пришедших на смену, а только удачно закрашенные холсты, скомканную глину».
Но авторы статей указывают на одно существенное правило - как бы плоха ни
была выставка, на ней можно обнаружить несколько хороших мастеров. И ради этого
хотя бы стоит побродить по подобной выставке. «Опять одна из тех чудовищных
выставок, - замечает Грабарь, - на которых часами отыскиваешь среди всякого
хлама несколько десятков хороших вещей, всегда так мастерски куда-то
запрятанных. Бесконечные ряды зал, угнетающее количество картин, битком набитый
ресторан, зевающие англичанки и скука, скука без конца. Такая выставка как-то
уже и озлобления не вызывает. Как-то надоело озлобляться - не из-за чего, как
будто даже неловко из-за таких пустяков горячиться, нервничать, выходить из
себя».
И. Грабарь для журнала писал серию статей из Мюнхена. Их стоит
рассмотреть отдельно. Автор в течение нескольких лет сообщал о Secession’е - немецком объединении художников,
которое, как явление, распространилось по нескольким крупным городам Германии к
началу XX века. Secession потряс германское общество своим
новаторством в живописи. «Что касается публики, - пишет Грабарь, - то она, как
всегда в таких случаях, сначала растерялась, потом принялась смеяться, еще
позже стала недоумевать и, наконец, привыкла. Привыкшая публика - самая
благодарная публика. Словечко “Secession” совсем понравилось и вошло в моду. Явились галстухи - Secession, сигареты - Secession, рестораны - Secession, явились сецессионистские зонтики,
шляпки, накидки…». Но мирискусники уже по опыту русских передвижников знали,
что новаторство художественному объединению плохо удается сохранять. И. Грабарь
говорит о вечном законе подобных обществ: «Старая история, такая же старая, как
и само человечество. Она повторялась каждый раз, когда одно поколение сменяло
другое; всегда борьба, всегда падают жертвы, всегда молодые одолевают старых,
всегда старые брюзжат и с тяжелым вздохом примеряются. Победители почиют на
лаврах, ждут старости, чтобы, в свою очередь, поднять руку на таких же смелых,
сильных, иногда и заносчивых молодых, какими они когда-то были. И снова борьба,
и снова жертвы. И чем легче дается победа, тем скорее впадают победившие в
старчество, преждевременно дряхлеют и не по летам брюзжат». Как видим, и на
подобных примерах мирискусники пытались доказать общественности, что они - то
молодое направление, которое пришло на смену устаревшему. Что они как раз
творят нечто новое, а те же передвижники давно устарели. Но, как мы можем
убедиться, авторы журнала не питали иллюзий на этот счет. Они знали, что сейчас
они борются, а когда-то потом так же станут бороться с ними, как устаревшим
направлением. Они были уже к этому готовы, ведь это был старый закон в
художественном мире. Так было и с Secession’ом. Уже через год Грабарь замечает в своей статье: «Secession, когда-то заносчивый, дерзкий и
теперь еще старающийся у себя дома играть роль знающего себе цену хозяина,
как-то совсем присмирел, притих в своих четырех залах, сконфуженно съежился…».
Лапшина, впрочем, замечает, что к 1901-1902 гг. мирискусники вообще отошли от
модернизма, который представляли сецессионисты и перестали хвалить это
объединение.
Когда А. Бенуа писал о Всемирной выставке, устроенной во Франции в 1900
году, мы видим, что был поднят и такой вопрос: как Западу представлена Россия?
«В виду того, что всемирная выставка является состязанием народов, то
естественно нас, русских, больше всего интересует, каковы мы там, достойным ли
образом представлены и не слишком ли опозорились. На это очень трудно ответить,
приходиться сказать - и да, и нет. Если считать за норму, каким представляется
на всемирном судбище Турция, Италия, Испания, Болгария, Сербия и другие, тому
подобные, иссякшие или недоразвившиеся государства, то мы не опозорены, т.к.
стоим высоко над этой нормой, но если сравнить нас с тем великолепием, в
котором представлены Франция, Англия, Германия и Австрия, то придется
сознаться, что мы являем вид скорее жалкий…». Россия не имела своего
собственного зала, был павильон, отделкой которого занимался г. Коровин и
слишком переборщил с деревенскими мотивами. Бенуа недоволен был и русским отделом
живописи. Было много картин передвижников, мало хороших картин. «Живописи и
искусства, за вышеуказанным редким исключением, нет на восьми стенах двух
больших зал». Интересно то, что в «Мире искусства» была еще помещена статья о
той же Всемирной выставке, но автор заметки - директор Люксембургского музея в
Париже, Леонс Бенедит. Он так же посчитал, что из всех зал русского искусства,
внимания заслуживает только средняя зала: «Устроители выставки очень удачно
сгруппировали в ней все то, что наиболее достойным образом представляет русское
искусство. В ней всего восемнадцать полотен, но некоторые из них очень высокого
уровня и, кажется, предсказывают этой великой нации в области искусства такую
будущность, которой никак нельзя было предполагать по предидущим выставкам». В
то же время этот автор дал России весьма нелестную оценку: «Есть ли в русском
искусстве ясно обозначенное самобытное течение, резко отличающееся от
иностранных школ? Очевидно нет. Россия, со своей редкой особенностью
ассимиляции, подвержена, как и во многих других областях духовного творчества,
иноземному влиянию». Правда, он считает, что у России есть потенциал и
склонность к самобытности - так что не все потеряно.
Как видим, мирискусники не преувеличивают в своих статьях, характеризуя
положение дел в России. Дягилев писал: «Где у нас те единицы, с которыми
считается Европа? Я не говорю, что их не может быть, потому что у нас будущее,
но их теперь нет, фактически нет, и всякий иностранец, желающий поделиться
своим знанием русской школы, с трудом и иронией вспоминает имена Боголюбова и
Верещагина, достойных наших представителей. Понятно, что на Западе мы теряемся,
ничего не видим и не запоминаем, кроме пошлой внешности, бьющей в глаза. Если б
нам дали точку опоры, одного такого Эдельфельта, мы бы показали, чего мы
стоим».
И. Грабарь тоже дал краткую ироничную характеристику русских людей
заграницей. «Я ходил по выставке с двумя петербургскими приятелями, - замечает
он. - Боже мой, как они разделали Сезанна. Один пришел от него в ужас потому,
что никогда не бывал заграницей и с пресной домашней мякины прямо попал на
наиболее радикальное проявление модернизма. Другой уже слишком часто бывал за
границей и дошел до такой степени пресыщения, что его не удивил бы художник,
нарисовавший вместо головки ногу, самую обыкновенную ногу. По крайней мере, он
сделал бы скучающую мину и стал бы уверять, что это ужасно старо. Оба они не
увидели у Сезанна ничего, кроме заурядного шарлатанства. Старый ворчун нашел,
кроме того, что это ужасно старо…Конечно, они не правы…». Как видим,
существовали две крайности, в которые мог впасть русский на Западе - либо, с
непривычки, зная лишь своих старых добрых мастеров, отрицать ужасное
новаторство европейцев, либо, посещая всевозможные модернистские выставки,
давно уже перестать удивляться чему-то действительно новому. И редкий русский
мог в самом деле отыскать что-то великолепное на выставке или по-настоящему
оценить что-то новое. Такими были мирискусники.
Перейдем к рассмотрению второго вида выставок, обозначенных нами в начале
- к выставкам русских художников. «Если бы кто-нибудь принялся со временем за
историю художественной жизни Петербурга, - пишет А. Бенуа, - и при этом имел
неосторожность пользоваться в качестве материала газетными объявлениями и
рецензиями, то он мог бы впасть в жестокое заблуждение. Невероятное количество
художественных выставок могло бы навести его на мысль, что Петербург в начале XX века переживал своего рода
художественный расцвет, сделался вторым Парижем или, по крайней мере, Мюнхеном.
О, если бы это было так!… На всех наших выставках лежит тоскливый отпечаток
лени и разгильдяйства. Количество выставок растет вследствии каких-то
бесконечных дроблений, вследствии нелепых историй и скандалов из-за жюри, из-за
партий…». В целом, если не все, то большинство выставок России мирискусники
жестко критиковали, иногда советовали как-то улучшить дело, иногда просто
ругали.
Как правило, на страницах журнала появлялись статьи о выставках двух
типов - об Академических, ученических выставках и о выставках самостоятельных,
давно признанных общественностью художников или художественных объединений.
Первые мирискусников категорически не устраивали. Не потому, что они
испытывали какую-то личную неприязнь к устроителям оных или представленным там
художникам. Просто они, с художественной точки зрения видели, что ничему
важному, ценному Академия Художеств и школы не учат. А порою и просто вредят:
«Странно выносить с выставки художественной школы впечатление, что истинная
цель школы не художество, а развитие в учениках почтенных качеств усидчивости,
трудолюбия и аккуратности». Важно, что здесь мы видим вновь, казалось бы,
парадоксальное сходство мыслей Л.Н. Толстого и молодых модернистов. Вспомним,
что Толстой еще в 1898 году писал, что художественные школы крайне губительны для
искусства, так как в большинстве своем просто убивают юные таланты. Остается
лишь заметить, что поколения не всегда противоречили друг с другом, порою они
дополняли друг друга, ведь они были тесно связаны между собой, о чем мы
неоднократно писали выше.
А. Бенуа замечал: «Признаюсь, мне очень тяжело писать об ученической
выставке, т.к. ничего нет деликатнее этого вопроса. Однако, сознавая, что “Мир
искусства” не может не высказать своего мнения относительно такого важного в
текущей жизни русского искусства события, приступаю, скрипя сердцем. Считаю же
этот вопрос деликатным, потому что приходиться говорить о чем-то
безответственном, хаотичном, придется судить о будущих силах, которые покамест
проявились лишь самым бледным и смутным образом». Как видно из подобных
репортажей, мирискусники всегда посещали эти выставки, именно для того, чтобы
посмотреть, есть ли эти «будущие силы», в надежде увидеть нечто новое. Но
такового они не находили.
Всегда ругать Академию авторам тоже надоедало, но ничего иного в отношении
школ они себе позволить не могли, ибо видели - и как художники, и как просто
образованные люди, что русская художественная молодежь только зря теряет время
в подобных заведениях. Потому что и те, кто там преподают, и те, кто ими
руководят, настолько далеки от настоящей художественной жизни, что учить
чему-то в этой сфере они просто не могут. «Истинный талант, конечно, не
заглушишь, - замечает А. Ростиславов, - не убьешь, но, право же, в подобных
школах как бы стремятся убивать людей-художников, в них происходит какое-то
принижение свободы творчества человека природы, втискивание ее в машинные
формы».
Выставки второго типа тоже привлекали мирискусников. Были те, которые они
посетили с интересом, и те, которые навевали на них скуку, а иногда и
раздражение. Например, на выставке В.М. Васнецова Дягилев побывал с
удовольствием. Он полагает, что Васнецов, Суриков и Репин повлияли на всю
современную живопись в России, они первые побывали в Европе, познакомились с
Западом, узнали его, поняли, как он может негативно влиять на самобытность
русских художников и сумели при этом остаться самими собой. Интересно, что в
этой заметке Дягилев поставил вопрос о влиянии Европы на русские таланты: «В
России долго не знали Запада, а теперь, последние года, он лезет к нам, и много
непрошенного и продажного мутит наш взор. Но что же хуже, что опаснее? Не знать
или знать слишком много?..». К слову, в другой своей статье Дягилев вновь
поднял вопрос о губительном влиянии Запада, на этот раз в лице Мюнхена и его Secession’а на молодых художников России,
которые стремяться подражать ему, в то время как подражать уже не стоит: «Я ли
выступаю против западного влияния? Самому смешно. Я неоднократно говорил о
громадном значении для нас Запада, устраивал иностранные выставки и водил
дружбу с западными мастерами. И все же если я теперь говорю о пагубном влиянии
Мюнхена, то говорю не против себя…». Даже Дягилев почувствовал, что влияние
Европы может стать очень опасным, и, конечно, посредством журнала стремился
обозначить эту проблему.
К числу плохих выставок мирискусники, прежде всего, относили передвижные
выставки. Это вообще отдельная тема. Конечно, первым делом, именно
передвижников авторы журнала воспринимали как своих предшественников, своих
основных противников в этой «вечной борьбе». Самое интересное, что передвижные
выставки как таковые, мирискусники вообще не рассматривали. По-видимому,
мирискусники не считали нужным их посещать - там нового встретить не удастся.
Но если просмотреть все репортажи о русских выставках, то мы обнаружим упоминание
о передвижниках вскользь то там, то тут. К примеру, Дягилев отмечает, что
академические выставки плохи из-за большого влияния передвижничества в
Академии: «Вот то, что поощряется в среде нарождающегося художественного
поколения, именно поощряется, потому что за самые обидные передвижные полотна
не стыдят учеников, а посылают за границу». Кстати, только у Дягилева, но в
другой статье, мы находим ироничную характеристику одной передвижной выставки:
«Что касается выставки нынешнего года, то она, как и все последние выставки
передвижников - бесконечно плоха. О ней можно и стоит говорить только из-за
трех, много четырех художников, из которых лишь один является коренным
передвижником и старым участником выставки…». Здесь же можно увидеть самый
общий взгляд редактора «Мира искусства» на эту старую гвардию: «Общество, или,
как оно трогательно именуется “товарищество” передвижных выставок, о заслугах
которого ежегодно упоминается в газетах, и заслуги которого перед русским
обществом действительно велики, - стало напоминать какого-то знаменитого певца,
какого-то престарелого тенора, пожалуй, Мазини, у которого от всего его голоса
осталось две-три ноты, да и те уже звучат с легкой сипотой. Поет этот тенор
только всем известные и всеми любимые оперы… Поют они целые тридцать лет,
осипли, бедные, и песни их уже на шарманках играть стали, и все же борются,
стараются…». Пожалуй, это основное, что можно было сказать о передвижниках и их
выставках. Но в дальнейшем мы увидим, что в своих статьях мирискусники, порою
иронично, ссылаются на передвижников, если хотят привести пример чего-то
несостоятельного или устаревшего.
Помимо этого мирискусники освещали выставки «36 художников», «Союза
русских художников» в Москве, московского «Товарищества художников» и другие.
По большому счету, отзывы выставки получили положительные, особенно те, которые
проходили в Москве. Здесь нет ничего удивительного, ибо художники «Мира
искусства» были тесно связаны с московскими живописцами - например, с «Союзом
русских художников», который неоднократно участвовал в выставках, устроенных
объединением «Мир искусства» и который был близок мирискусникам по духу. Так
что они не могли не хвалить своих друзей.
Конечно, мирискусники не могли обойти стороной и свои собственные
выставки. Об этом писал сам главный редактор - Дягилев. Он сообщал: «Выставка
журнала “Мир искусства” с будущего года, вероятно, будет открыта одновременно с
другими выставками русских художников, т.е. совпадет с академической и
передвижной. Таким образом, наконец, легче будет сопоставить все эти
художественные состязания и делать заключения, которые, несомненно, будут
фатальны для многих состязающихся. Выставка “Мира искусства” вызывает ежегодно
нескончаемое количество толков, ее бранят из года в год, причем в последнее
время для этой недостойной брани стали пользоваться всякими средствами без
разбора , инсинуациями, ложными сообщениями и всем тем скарбом притупившегося
уже оружия , который всегда наготове в завистливой среде бесчисленных
художественных неудачников… “Вершители судеб” могут говорить все, что хотят.
Суворин может сколько ему угодно брюзжать с авторитетом человека, за всю свою
жизнь не откликнувшегося ни на одно истинно художественное явление; Стасов
может призывать на помощь; всякие лживые аргументы вроде отсутствия публики на
выставках “Мира искусства” и их полнейшее фиаско - все это совсем неважно, ибо
живое искусство упрямее и сильнее всех его беззубых врагов…». Мы позволили себе
привести столь большую цитату, потому что вряд ли удалось бы лучше и столь
точно своими словами передать отношение главного редактора журнала к своим
основным оппонентам и противникам, чем это сделал он сам. В другом номере «Мира
искусства» за 1900 год мы находим официальный протокол из журнала 58 собрания
Императорской Академии художеств, где видно, как часть собрания выступала за
то, чтобы запретить выставку «Мира искусства».
Как видим, и здесь подтверждается поистине вечное правило художественного
мира - все новое вызывает резкий протест всего старого.
Наконец, перейдем к третьему и последнему виду выставок - те, что
устраивались с заданной тематикой. В разное время, в разные годы авторы «Мира
искусства» посещали самые различные выставки этого вида. Бельгийская выставка,
устроенная в Петербурге, выставка керамических изделий, Французская выставка в
Обществе поощрения художеств, Московская выставка художественных произведений
старины, выставка художественных произведений эпохи Возрождения, выставка
старинных картин, выставка русских исторических портретов, кустарная выставка,
выставка «Детский мир», и многие другие.
Опять же, сознательно или нет, но и в этих статьях проскальзывает
сравнение с Европой. Правда, не всегда сравнение было в пользу заграницы.
«России почти нечего завидовать Англии и ее Рейнольдсам, Генсборо и другим, -
пишет Москвич, - у нее были свои Левицкий и Боровиковский. И, не смотря на это,
забыть чуть ли ни на целое столетие таких мастеров для кучки академических
немцев…». Это, конечно, омрачало всю радость от подобных открытий.
Был так же поставлен вопрос об истинно русском искусстве, русском стиле.
Мирискусники уделяли внимание так называемому народному искусству. Например, на
кустарной выставке, где Бенуа пришел к неутешительным выводам: «Куда ни
взглянешь - упадок, тоска, безвкусица, самая жалкая холопская погоня за Западом
или, пожалуй, еще более жалкая и пошлая попытка творить в народном духе. Какой
ужас, какая нелепость - народ, старающийся творить в народном духе!».
Он же, в другой статье говорит о том, что русским необходимо сохранять
свое, русское народное искусство, которое итак находиться в полузабытом
состоянии. Пока не стало слишком поздно: «Придет время, когда мы прозреем и
поймем, что все эти вышивки и ситцы лучше и красивее пошлых европейских
материй, что вся эта деревенщина и дичь содержит в себе элементы декоративной
красоты, какой не найти в Гостином дворе и на Апраксином рынке, и каждый
захочет иметь у себя эти прекрасные предметы, но будет поздно - они станут
редкостью и стариной». Нельзя сказать, что Бенуа ошибся в своих предположениях.
Поразительно, что он видел это развитие ситуации уже тогда.
Иностранные выставки, устроенные в России, как правило, устраивали
мирискусников. «Бельгийская выставка недурна, - пишет Дягилев. - Из всех,
бывших у нас доселе иностранных выставок она больше всего напоминает голландскую,
не потому, чтоб эти два соседние искусства были похожи друг на друга, но
оттого, что в организации обеих выставок чувствуется что-то сходное…». Кстати,
Дягилев подчеркивает роль художников, как составителей выставки - что хоть
ничего выдающегося на выставке нет, нет ничего и «особенно плохого».
Правда, мирискусники подмечают, что не всегда иностранная выставка бывает
удачной, но в последние годы так происходит: «Мы уже привыкли, что все
иностранные выставки, устраиваемые нашим обществом поощрения художеств при
содействии г. Мориса, изобилуют хламом, носят рыночный характер и отличаются
специально им свойственным размещением картин, при котором нередко нельзя
рассмотреть именно самые интересные из них, что невольно не ждешь ничего
особенно хорошего от каждой новой иностранной выставки в помещении общества.
Тем не менее, нельзя не радоваться появлению у нас этих выставок: все-таки они
знакомят хоть со средним уровнем искусства разных национальностей, хоть и со
случайно попавшими картинами отдельных крупных художников…». То есть Россия так
или иначе, мелкими шажками, но приближалась к всестороннему представлению об
искусстве не только своей, но и других стран. Хоть мирискусники и относились к
этому весьма критично, отрицать этого факта они не могли, да и не сумели бы.
В целом можно сделать следующие выводы: выставки, безусловно, нужны
обществу, как и самим художникам. Как подчеркивали авторы «Мира искусства»,
общественность необходимо просвещать. Есть выставки плохие и хорошие, но чтобы
оценить хорошие необходимо посещать и плохие - на них тоже можно обнаружить
что-то поразительное. У Запада следует многому учиться, но Россия должна жить
самостоятельной художественной жизнью, хотя пока что, считали мирискусники,
сделать это было довольно проблематично с их устаревшей Академией Художеств и
школами с бездарными учителями. Русское общество особенно нуждалось в новых
силах, новой встряске, ибо одному «Миру искусства» бороться за это с
устаревшими академиками, передвижниками и в том числе критиками, было довольно
проблематично. А бороться было нужно, нужно было перешагнуть через все старое,
отжившее, и двигаться дальше. Ибо это главная задача, основной путь художника.
Зарисовки
о Европе
Следующий раздел - это статьи с материалом о загранице, которые
затрагивали самые разные темы. Это и путевые заметки, и описание различных
городов Европы, обзор художественной жизни разных стран Запада. В таких
публикациях преобладал культурный аспект - в том числе повседневной и народной
культуры тех стран, которые они рассматривали. Журнал влиял на эмоциональное
восприятие читателя, ведь через эмоции легче узнать другой мир, нежели через
рационализм.
З. Гиппиус в своем обширном очерке об Итальянских городах дала портрет
типичного русского заграницей: «Спутник наш был одним из тех русских, которые
вечно и одиноко шатаются заграницей без дела, без плана, без желаний, по
малейшему предлогу едут в какое угодно место - и без предлога его оставляют, не
говорят ни на каком языке, за табльдотом угрюмы и прожорливы, вечно недовольны
“заграницей ”, - но в Россию все равно не попадают, не то по лени, не то по
другим причинам - неизвестным».
Мирискусники писали о загранице каждый раз по-разному. Эти статьи были
полны впечатлениями и размышлениями. Были, например, зарисовки Европы во время
путешествия по ней. Так, посещая итальянские города, В. Розанов писал об их
истории, культуре, выражал свои мысли по поводу того или иного события. В
статье «Пестум» он пишет о великолепном в прошлом городе на берегу моря:
«Греческий городок “Посейдония”, переименованный римлянами в “Пестум” потерял
связь с родиной, потом - подпал под Рим, беднел, худел. Жители расходились или
вымирали. Никто его не убивал, не громил его стен таранами, не жег. Он в
стороне был от общих путей истории, от транзита, от войн, от богатства. И умер
как маленький, никому более не нужный городок. Жители его покинули, но его боги
остались. Это - храмы…». Мы видим, до чего может довести невежество и
равнодушие. Стоит городу потерять свое прежнее значение - и гибнет культура.
Примечательно, что в этой статье мы находим весьма нелестный, но вполне
оправдавший себя взгляд Розанова на Соединенные Штаты Америки: «Европа, как и
Азия, в конце концов, побеждаются Америкой. Американизм есть принцип, как
“классицизм”, как “христианство”. Америка есть первая страна, даже часть света,
которая, будучи просвещенною, живет без идей. Она не имеет религии, иначе как в
виде религиозности частных людей и частных обществ; не имеет в нашем смысле
государства и правительства; не имеет национального искусства и науки. Даже
нельзя сказать, чтобы она имела нацию, ибо Соединенные Штаты не есть
национальный организм, подобный России или Германии, или Испании. Вот это-то
существование без высших идей побеждает и едва ли не победит христианство, как
христианство некогда победило классицизм. Так что вместо ожидаемого Страшного
Суда, которого так боялись апостолы и рисовал его Микельанжело, наступит
длинная вереница буфетов, в своем роде некоторый хилиазм: “буфет Вифлеем”,
“буфет Фивы”, “буфет Рим”, “буфет Москва”, с отметкой возле последней: “поезд
стоит час, ресторан и отличная кулебяка”». Прав был русский публицист, описывая
страну и вполне верны были его прогнозы - Америка возвысилась и над Европой, и
над Россией, и до сих пор имеет существенное влияние на ту и на другую.
В другой своей статье, «Из итальянских впечатлений», Розанов сравнивает
образ жизни русских, европейцев с образом жителей древней Помпеи, основываясь
на раскопанных не столь давно по времени руинах города: «Нынешние греки и
итальянцы живут точь-в-точь как и русские. Кухня - на задворках, в сторонке -
спальня, темная и неудобная, со всяким хламом, который стыдно вынести в
парадные комнаты, “главное” жилища; это кабинет мужа, гостиная жены, и для
официальных и отяготительных посетителей - зала. Все это - в третьем этаже,
между двумя этажами ниже себя и одним этажом выше себя. Общая лестница, на
которой, мы не без зависти оглядываем тех жильцов дома, которые побогаче нас, и
проходим не без удовольствия мимо носа тех, которые победнее нас» и чуть ниже:
«Жилища в Помпее имеют летнюю психологию, воздушную, доверчивую. “Если даже
обкрадут, то уж лучше внезапно: не стану же я всю жизнь готовиться к этому.” В
жилищах много воздуха. Свет шел сверху».
В другой своей заметке о Флоренции, Розанов обращается к вере католиков.
Он попал в храм, в piazza del Duomo, на католическую службу, и его поразило равнодушие
священников ко всему, кроме Бога и своих молитв. Он пишет: «Это - вера. Да, это
тоже вера, не как наша, теплящаяся, колеблющаяся, как огонь лампады, тихая,
прекрасная, слабая - это другая, но тоже вера, законов которой мы не можем
рассудить по совершенно особенным законам своей веры».
Иосиф Израэльс тоже писал о городе, который он давным давно мечтал
посетить и ему это удалось: «Мадрид - чудный, большой и цветущий город и когда
сияет солнце или на небе стоит месяц, истинное удовольствие плестись по широким
улицам с лавками, кофейнями и разного рода выставками… Самая характерная
особенность Мадрида - это ночь. Кажется, что Мадрид никогда не спит. Все гуляет
и болтает в два, три часа ночи на Puerta del Sol. Газеты, прохладительные напитки,
лотерейные билеты предлагаются с громкими выкрикиваниями, и лишь когда встает
утренняя заря, город, кажется, предается покою». Читая такие заметки, не только
чувствуешь настоящую любовь со стороны автора к описываемому городу, но и
самому хочется посетить его.
Другой автор, некий Ф. (скорее всего - Д. Философов), путешествуя по
Германии, писал о памятниках и в частности, критиковал недавно поставленный
памятник Вильгельму I: «Каждый раз, приезжая
в Берлин, поражаешься его быстрым ростом. Повсюду новые постройки, новые улицы,
новые памятники… Сделан он, как известно, по проекту Бегаса и денег на него,
по-видимому, не жалели. Нынче вообще не умеют делать памятников и к Бегасу
нельзя относиться строго… Безвкусие современных памятников есть знамение
времени, и возмущаться этим не приходиться. Но можно и заурядную вещь выполнить
хорошо. Памятник же Вильгельму сделан так, что кажется, вот-вот он сейчас
провалиться, или барельефы на галерее размокнут…».
В небольшой заметке, помещенной после репродукций старинных средневековых
миниатюр, П. Николаев рассмотрел то «фантастическое» время в Европе - эпоху
средневековья. Он подчеркнул и объяснил необычный и восхитительный стиль
миниатюр, пояснил, что не только живопись, но и литература с наукой в то время
были полны фантастики, домыслов и веры во все необычное. И это было
удивительное, ни на что не похожее время. «Как произошло, - недоумевает
Николаев, - что после великого, полного силы искусства XII и XIII
столетия для средней Европы наступило время какого-то декаданса и манерной
изысканности? Почему молодая Европа вдруг остановилась в своем стремлении и
стала забавляться изящными безделушками? - XIV и XV
столетия были для средней Европы временем какого-то идейного междуцарствия.
Великие мечтания средних веков умерли с крестовыми походами, а новые идеи еще
не явились на смену. Возрождение, наступившее для Италии в XIII столетии, опоздало на два века в
остальной Европе. Народы были преданы материальным заботам создания крепких
государств, высшие классы жили пережитками старого, утонченными и бесцельными,
своего рода искусством для искусства…». Как все-таки любили мирискусники
уходить в прошлые века, возвращаться к старым, порою забытым формам искусства!
Как нравилось им романтическая, готическая живопись и как они пытались понять,
почему мир ушел от этих форм искусства и пришел к совершенно иным формам,
стилям, которые порою просто проигрывали забытым.
В этой же статье автор сравнивает европейские средневековые миниатюры с
японским искусством. «Искусство японцев, - пишет он, - это апофеоз тонкости
пяти чувств, апофеоз зоркости глаза, гибкости мышц, тонкости нежных пальцев.
Его объектом служит жизнь природы, созерцаемая орлиным, не человеческим оком… У
японцев и люди - агломераты красок и линий, воплощаемые фантомы божественного
движения, прелестные цветы дивной природы. И люди - очаровательные
физиологические организмы, нежные, нервные, как тепличные цветы, - без мысли,
без чувства, - прелестные в своей утонченной физиологичности. Японское
искусство - фантастика ощущения… Миниатюра - это фантастика чувства…».
Японское творчество в то время было очень популярно в Европе. Многие
деятели искусства открыли в нем для себя новый стиль, новый взгляд на мир. Это
подробно рассмотрел в своей статье И. Грабарь. Он проследил влияние Японии на
Европу. Его поражало, что многие находят искусство японцев смешным, наивным и
детским: «Есть художественные произведения, отдельные художники и даже целые
эпохи в истории искусства, к которым среди так называемой большой публики, а в
России, к стыду нашему, нередко и среди художников, установилось какое-то
странное отношение. Не то чтобы оно было пренебрежительным, или, чего доброго,
негодующим, как отношение хорошей школы передвижника или самого Стасова ко
всему, что недоступно их пониманию. Этого нет. Но есть какой-то курьезный
оттенок снисходительности взрослого к ребенку. “Египет! Как много милого и
симпатичного в этом детском искусстве!” или “Как забавно наивны, но, в
сущности, трогательны акропольские архаики!”. Я слышал еще и такое изречение:
“Первые шаги в искусстве народа имеют важное значение с точки зрения истории, и
в этом смысле не лишены ценности робкие работы Боттичелли или Дюрера”. Нечего
после этого удивляться тому, как у нас относятся к японцам». Грабарь полагает,
что в своем творчестве Клод Моне, Дегас, Уистлер многое заимствовали из
японских мотивов и техники. И еще, Грабарь отстаивает мнение, что искусство
японцев очень натуралистично, что подтверждается их драматургией.
В цикле своих статей «По Европе» Грабарь знакомит читателей с немецкими
городами - Берлином («Берлин, несомненно, самый нарядный город Европы. Его
нарядность обладает, однако, одним чрезвычайно курьезным свойством: она в
несколько часов может надоесть до такой степени, что хочется бежать от нее»),
Мюнхеном («Я долго жил в Мюнхене, полюбил его, вынес оттуда милейшие
воспоминания и мне грустно думать, что этот прелестный городок, с
очаровательными окрестностями, с когда-то бодрой художественной жизнью, может быть,
постигнет участь забытого всеми Дюссельдорфа»); знакомил с особенным влиянием
Франции на искусство, следствием чего явился импрессионизм - «Ни в одном городе
нет этой бездны кафе и нигде художник не имеет перед глазами этой вечной борьбы
искусственного света с небом, этих тонких, изумительно красивых, желтоватых и
голубых тонов, которые он наблюдает здесь…Сама жизнь как будто сложилась здесь
так, что иначе ее не передашь, как на лету, быстро, полунамеками. И сам Дегас
начинает казаться уж слишком размышляющим»; размышлял о моде и ее значении для
истории искусства - говорил, что платья дам их времени когда-нибудь будут
коллекционировать, как редкие картины. Размышления о моде, конечно, не являлись
новацией мирискусников - платья разных эпох в их время выставлялись в музеях.
Конечно, Грабарю хотелось, чтобы и наряды их времени попали когда-то в музейные
залы.
Важны заметки, рассказывающие о статьях в европейских журналах, где
писалось о русской культуре. Например, в заметке «Немцы о русских художниках»
приводится статья И. Капольд из Дармштадского журнала «Дитя и искусство» о
русских детских и народных сказках. Автор утверждает, что русские только
недавно поняли, какое сокровище у них есть - сказки. Их долгое время не ценили
и стали ценить только благодаря Пушкину. Были рассмотрены основные русские
иллюстраторы сказок. «Нельзя не признать, - делает вывод автор заметки, - что
немецкий автор дает довольно верное освещение положения дела. В его суждениях
гораздо больше добросовестности, чем в многочисленных отзывах наших
доморощенных критиков». Как видим, мирискусники положительно относились к
добросовестной критике. Только критика бывала добросовестной лишь заграницей, а
русской критике до подобных стандартов было еще далеко.
В другой такого рода статье, «Французский критик о русской музыке»
говориться о заметке во французском журнале, где некий г-н Марнольд прошелся
критическим обзором по основным композиторам России после Глинки, похвалил
Римского-Корсакого, был пренебрежителен к Бородину и совсем негативно охарактеризовал
Чайковского. А.Н. (А.П. Нурок), рассматривающий эту французскую заметку,
обзывает критика «дивным, редкостным и душистым цветком критического тупоумия»
и замечает, что взгляды француза очень напоминают давние воззрения г-на
Стасова, но сами русские уже от подобных идей ушли: «Порвавши со своей старой и
действительно зрелой культурой, французские эстеты не далее, как со вчерашнего
дня, присвоили себе подобие новой, “усовершенствованной” культуры. Присвоили,
но, как видно, еще не вполне усвоили. И вот они переживают теперь с этим
бесплотным суррогатом культуры свой блаженный зеленый период
рационалистического мальчишества. Мы, русские любители музыки, давно из него
вышли. Давным-давно, вскоре после свержения эстетического ига царя Гороха, то бишь,
Владимира Стасова». Вот пример зарубежной критики, которая очень схожа с
русской - и мы видим, как отнеслись к ней мирискусники.
Есть несколько заметок о польском искусстве. «Мир искусства» писал о
художественных журналах Польши - что их как таковых нет, лишь недавно появилась
«Химера», но ей еще многому нужно набираться. Позднее Перемиловский В. писал о
нем же и о польском искусстве в целом. Так же мирискусники говорили о польской
литературе, характеризуя книгу Храневича К.И., и нашли, что у классиков Польши
много общего с классиками России.
Вообще в журнале много внимания уделено рецензиям на выходящие книги и
характеристике некоторых европейских журналов.
За все время издания «Мира искусства» было прорецензировано немалое
количество книг. К некоторым русским из них мы еще вернемся в дальнейшем. Пока
же осветим те из них, которые относились к европейской культуре. В целом,
рецензирование литературы было в традициях русской журналистики. Модернисты
придерживались этой традиции.
Были книги, перевода которых долго ждали в России. Такие, как, например,
«О природе вещей» Тита Лукреция Кара. Такие книги модернисты рецензировали с
удовольствием. Мирискусники благодарили за это издание издательство «Скорпион»
и сетовали лишь на ограниченное количество экземпляров. Издание в целом им
понравилось. Или - была выпущена в свет книга Кнута Гамсуна «Пан». И была
издана «почти изящно», как считает А.Н.
Большое внимание мирискусники уделяли изданию произведений Р. Мутера -
немецкого профессора, искусствоведа. В первом же номере «Мира искусства» была
заметка о начале издания в России его обширного труда «История живописи XIX века». «Перевод вышеназванной книги,
- пишет Ф., - особенно необходим теперь, когда в России начинают ежегодно
устраивать выставки картин иностранных художников, оценка которых не только со
стороны публики, но и со стороны прессы производится обыкновенно без всякого
знания дела и с полным неведением о состоянии современного искусства на
Западе». Авторы журнала следили за выходом этого труда на протяжении всего
издания «Мира искусства».
Некий Библиофил делал обзоры иностранных изданий. Он писал о книгах Сэра
Вальтера Армстронга, Жуля Бретона, книгах о художниках: Рубенсе, Джоне Эверете
Миллэсе, Адольфе Клингере, Франце Штуке. Философов говорил о недавно вышедшей
за границей книге графа Лейнингена, П. Эттингер осветил швейцарское искусство.
Были затронуты и такие издания, которые выпускали произведения зарубежных
классиков. Например, задумалось издание «Библиотека великих писателей», под
редакцией Венгерова. Том первый был посвещен Шекспиру. Именно редактор этого
издания не устраивал мирискусников. Они припомнили, как плох был выпущенный им
перевод Шиллера, что многого от его «Шекспира» они уже не ждали. Но это была
одна из ошибок, допущенная молодыми дерзкими художниками. Венгеров был (и во
многом остается) крупнейшим авторитетом в сфере литературы. Здесь присутствует
только личностное отношение к издателю.
Столь же придирчиво авторы журнала отнеслись к изданию сочинений
Кальдерона, тщательно рассмотрев первую книгу. «Перевод г. Бальмонта, - пишет
Д. Шестаков, оставляет внешнее впечатление гладкости и внутреннего
одушевленного чувства. Он мог бы, конечно, не цитировать Пушкина… Но кто у нас
помнит Пушкина и кто в состоянии справиться с испанским оригиналом?».
В целом мирискусники акцентировали внимание на переводе - хорош он или
оставляет желать лучшего, - на иллюстрации - особенно если книга была о
художнике или искусстве в целом, - на внешнем виде издания и его цене.
Журналы их привлекали в том случае, если они находили в них интересующие
статьи об искусстве или если появлялись новые журналы об искусстве.
Например, Дягилев, изучая первые номера «Les Arts», писал: «Глядя на этот журнал, проникаешься
завистью. Как это французы могли с такой легкостью, при обилии уже существующих
художественных журналов, выпустить еще новый, и столь интересный, и столь
дешевый?..».
Так же «Мир искусства» обращал внимание на «Die Zeit» (Германия), «The Studio» (Лондон), «L’Art Moderne» (Брюссель), «Kunst und Кünstler» (Берлин) и многие другие.
В исследовательской литературе часто поднимался вопрос, что именно искали
мирискусники в Европе, что казалось им наиболее ценным в Западном искусстве?
Петров В.Н. замечал: «Ни сам Бенуа, ни другие мемуаристы, повествующие о
возникновении «Мира искусства», не дали ответа на этот вопрос. Даже дружеские
письма молодых участников кружка, изобилующие откровенными признаниями, не
вносят в дело надлежащей ясности. Ее, вероятно, и не может быть: юные самоучки
и дилетанты не были достаточно подготовлены, чтобы отчетливо разобраться во
всей пестроте и сложности Западного искусства. Недаром Бенуа говорил об
инстинктивной, а не сознательной тяги к Западу».
Лапшина Н.П. тоже подчеркивает некоторую наивность европейских статей
мирискусников: «…На протяжении всего существования журнала не были ясно
определены те критерии художественного качества, из которых он исходил в своих
оценках. Все писавшие в журнале опирались, по существу, на чутье, на личный
вкус, и поэтому личная одаренность автора играла решающую роль… Просматривая
комплект журнала, ясно видишь на каждом шагу противоречивость оценок, то, как
бьются наиболее одаренные сотрудники (Бенуа, в частности) над обоснованием
своей точки зрения. Это “пленной мысли раздраженье” особенно видно в некоторых
статьях, где авторы противоречат сами себе, пытаясь с разных сторон подойти к
решению вопроса. Недаром Бенуа впоследствии отрицательно высказывался об этой
субъективной критике и даже с присущей ему наивностью талантливого человека
ужасался тому, какие она принесла плоды». Многие статьи действительно кажутся
написанными неопытной рукой, в некоторых видна мальчишеская бравада и
стремление привлечь к себе внимание. Неизбежна была и ошибочность некоторых
суждений мирискусников. Петров пишет: «Попытка создания в конце XIX века большого стиля и синтеза
искусств казалась русским юношам самым современным и значительным из того, что
можно было отыскать тогда на Западе. Видимо отсюда идет настойчивый интерес
“Мира искусства” к мюнхенскому “Сецессиону”, к живописи Германии, Финляндии и
скандинавских стран, к утонченно-эстетизированной английской графике, отсюда
увлечение Беклиным - увлечение, которого впоследствии деятели “Мира искусства”
стыдились, - отсюда удивительная недооценка французского импрессионизма». Но,
не смотря на это, мирискусники совершили огромный по своей значимости обзор
европейского искусства, пусть даже основываясь просто на личных вкусах. Ничего
подобного ни до них, ни после повторено не было.
Подводя итог, заметим следующее. Авторы «Мир искусства» пристально
всматривались в Европу. В каждой статье чувствуется индивидуальный взгляд
мирискусников на европейскую культуру. Молодые художники стремились дать
всесторонний обзор искусства Запада, начиная с описания старинных городов и
заканчивая рецензированием иностранных изданий. Но все это подавалось
разрозненно, и казалось не связанным между собой. Читая эти статьи, не видишь
ни четкой структуры, ни определенной цели, которой хотели достигнуть
мирискусники. Вполне очевидно, что авторы журнала стремились охватить все разом
- и там не забыть, и тут показать, и это описать. Но четкой и полной картины не
получилось. Мы просто видим отрывочные заметки их общего взгляда на Европу. В
этом плане можно было бы многое показать иначе и полнее.
Подведем итог параграфу. Европейская культура почиталась мирискусниками,
они преклонялись перед ней. Художников Запада многие из них воспринимали как
учителей, пытались разобраться в их технике, говорили о непризнанности и
трудных судьбах. Мирискусники посещали европейские выставки, пытались уловить
новые таланты, новые направления, делились впечатлениями и хотели просветить
отстающую от Европы Россию, показать, каким образом может существовать
культурный бомонд, как развивать искусство, не мешая, а помогая этому. Этого не
получилось так, как они, возможно, планировали. Главная их задача - познакомить
Россию с той Европой, которой они открыли для себя, которую они любили, - так и
не решилась. Разрозненные статьи, репортажи о Западе, несколько зарисовок о
художниках и множество рассказов о выставках - вот и все, что было ими
представлено. Предоставленные ими материалы были несколько субъективны.
Мирискусники писали о том, что было интересно им самим, а потому целостной
картины западного искусства журнал передать не мог. Но модернисты были в то
время первыми, кто попытался дать полный (или более или менее систематичный)
обзор западного искусства. В этом их главная заслуга и все, что было ими дано
русскому обществу, имело огромное значение.
.3 Русская культура глазами молодой художественной элиты («Мир
искусства», «Весы», «Золотое руно»)
Русская культура для модернистов всегда была объектом пристального
внимания, они любили ее и, безусловно, в связи с этим пытались выполнить по
отношению к русской культуре поставленные перед собой миссионерские задачи,
которые мы обозначили выше.
Начало рассмотрению русского искусства по-новому положил, конечно, «Мир
искусства». Едва только появившись, это объединение молодых художников, уже
принадлежавших к русской культуре, крайне интересовалось ее богатым прошлым.
Они приходили в восторг от живописцев, архитекторов и композиторов XVIII - начала XIX века, они преклонялись перед культурным прошлым
России. Недаром А.Н. Бенуа, обнаружив, что немецкий профессор Р. Мутер, пишущий
«Историю живописи XIX века» и не включивший
туда ни строчки о России, написал ему письмо с подобными претензиями, на что
получил ответ с предложением самому написать эту главу.
«Мир искусства» оказался своего рода пионером в области журнальной
публицистики. Как замечает Петров В.Н., «на рубеже XIX-XX
столетий, “Мир искусства ” возглавил широкое культурно-эстетическое движение,
которое заново переоценило все устоявшиеся ценности русского изобразительного
искусства, пересмотрело его творческую проблематику, обновило его традиции и во
многом определило новые пути русской художественной жизни». После мирискусников
все следующие модернистские журналы лишь продолжали развивать их обозначенные
идеи, рассматривать проблемы и отставать свои принципы, в то время как сами
мирискусники во главе с С.П. Дягилевым занялись воплощением на практике своих
идей - организацией выставок и концертов русского искусства на Западе и
знакомили Европу с русским балетом. По замечанию того же Петрова, в Москве
последователями «Мира искусства» были журналы «Весы» и «Золотое руно», а в
Санкт-Петербурге - «Аполлон» и «Старые годы». Мы берем для рассмотрения
московских модернистов, потому что оба журнала стали выходить почти в одно
время с прекращением издания «Мира искусства», а потому они выглядят как
непосредственные наследники и последователи мирискусников.
«Весы» - прежде всего литературный журнал. Многие из известных нам
сегодня поэтов Серебряного века печатались в нем и принимали активное участие в
деятельности журнала: А. Белый, В. Брюсов, К. Бальмонт, М. Волошин и многие
другие. Как раз следствием этого и являлась литературная направленность
журнала. Лишь на втором плане у них стояли вопросы философского характера и
искусства.
«Золотое руно», напротив, в некоторой мере пыталось соединить в себе и
«Мир искусства» и те же «Весы». В журнале был большой отдел поэзии и
беллетристики, одновременно с этим существовал художественный отдел, где в
первый год издания сохранялся принцип приверженности художникам-символистам,
что и на страницах «Мира искусства», а в оформлении журнала принимали участие и
К. Сомов, и Л. Бакст, и Е. Лансере - все те же художники, которые являлись
составляющими ядро объединения «Мир искусства». В своей хронике «Золотое руно»
местами прямо копирует мирискусников в изложении материала. Они пытались в равной
мере уделять внимание культурной жизни Москвы - говорили на своих страницах о
выставках, концертах, выходяших книгах, театральной жизни. Все то же, что
рассказывал «Мир искусства», только о Петербурге.
Если мы попытаемся объединить все эти разнородные статьи, то мы увидим не
только цельную картину культурной жизни Петербурга и Москвы конца XIX - начала XX века, но и новый взгляд на искусство прошлого и прямую
связь, которую проводили модернисты между ним и собою.
Мы намерены рассматривать статьи о русской культуре, разделив их на два
вида:
- повседневная культурная жизнь и русское искусство прошлого;
- литературный отдел и философские рассуждения.
Рассмотрим эти разделы поподробнее.
Практически равное место по значению с публикациями о загранице занимали
периодические сводки о петербургской культурной жизни и статьи об искусстве
России в «Мире искусства». «Золотое руно», и «Весы» так же уделяли этому
вопросу внимание, представляя в основном Москву, но местами затрагивая и
Петербург.
На страницах этих журналов приводились постоянные рассказы о музыкальных
концертах, театре, новых изданиях - и русских выставках, о которых мы уже
говорили выше. Сохранялось и после прекращения выпуска «Мира искусства»
постоянное посещение выставок модернистами, и по-прежнему они вызывали
недовольство и удовлетворение, сетования и изумление. Ко всему прочему обзоры
эти проводили те же мирискусники - И. Грабарь, к примеру, недовольно писал в
1909 году: «Каждый год, когда принимаешься за отчет о выставках, даешь себе
слово, что он будет последним в твоей жизни. Нет занятия менее благодарного и
более тягостного, чем писание этих отчетов…». Мы не будем возвращаться вновь к
этой теме, а перейдем к рассмотрению других статей.
Мирискусники считали музыку, разумеется, одной из составляющих искусства,
поэтому пристальное внимание уделяли программам симфонических собраний,
концертам, устраиваемым в Петербурге, а порою и в других городах (например, в
Киеве). Как правило, об этом писал А. Нурок (или А.Н.), большой знаток музыки,
как отмечает Н. Лапшина, А. Коптяев и А. Смирнов. Писали, критиковали, иногда,
правда, отмечали и удачные музыкальные мероприятия - например, Нурок хвалит
программу «Вечеров современной музыки» - что это единственное место, где можно
услышать новую, настоящую музыку. Но в большинстве случаев критики жаловались
на скуку и однообразие.
«Золотое руно» пошел немного дальше. С первых же своих номеров, журнал
печатал «Музыкальные письма», где их автор, А. Струве, знакомил читателей с
теми же музыкальными концертами в Москве, писал о композиторах, последних
операх и дирижерах; были и теоретические статьи о музыке. Модернистов
объединяло одно. Все они были недовольны тем, как представлено музыкальное дело
в России.
Театральные заметки имели место в каждом модернистском журнале. В то
время как раз большим вниманием публики пользовался Художественный театр, под
руководством Станиславского и Немировича-Данченко. Это были новые режиссеры, с
новым взглядом на театральные постановки, игру актеров, репертуар. Они как раз
были теми людьми, которые поворачивали русское театральное искусство к новым
горизонтам, и модернисты, конечно же, не могли не уделять им пристальное
внимание. Мирискусники отмечали их спектакли - «Антигону» Софокла, «Доктора
Штокмана» Ибсена, «Дядю Ваню», «Иванова» Чехова и другие. Порою восхищались,
иногда критиковали, но в целом преклонялись перед организаторским талантом
режиссеров. Помимо этого их привлекали давно нашумевшие на Западе постановки,
как, например, «Валькирия» Вагнера. А. Бенуа писал по поводу русской постановки:
«Все критики и даже самые строгие нашли, что Валькирия у нас поставлена
великолепно; лучшего, де, нельзя желать. Однако, это не так…». Его не устроило
художественное оформление спектакля. А между тем для мирискусников эта тема
была очень важна. Будучи художниками, на рубеже веков они совмещали выставочную
и журналистскую деятельность с постановками спектаклей в качестве художников -
декораторов, и всегда обращали внимание на эту сторону театральных спектаклей.
Так, Д. Философов, говоря о постановке «Ипполита» Эврипида отмечал: «Что
касается работы художника Бакста, то она достойна всякой похвалы. Даже “Новое
время”, питающее какую-то безотчетную, чисто стихийную ненависть ко всему не
вульгарному, ко всему художественному, и то не могло не отметить, красоты самой
постановки, а особенно костюмов». Грабарь же писал в 1908 году: «Я не видел
“Павильона Армиды”, балета, поставленного Александром Бенуа на сцене
Мариинского театра, но видел все им написанные декорации и все рисунки
костюмов. Вот подлинный декоратор, заставляющий вспомнить о старых театральных
традициях. Это - человек, которого электротехник не задушит. От электричества
он возьмет только то, что ему нужно. К этому же типу нужно отнести и декорации
Бакста».
Журнал «Золотое руно» писал отдельно о петербургских театрах, отдельно о
московских. В каждом номере делался обзор последних спекталей, с кратким
описанием их самих, актеров и декораций. «Весы», в свою очередь, уделяли
внимание тем спектаклям, где замечали символизм, столь важный для них элемент
миропонимания. Например, рассказывая о «Голубой птице» Матерлинка, Эллис писал:
«Безо всяких отговорок мы ценим и любим детскую сказку, эту форму, соединяющую
в себе самые легкие и свободные формы символизации и магические чары
фантастики…». Правда, в журнале был поставлен вопрос - возможен ли вообще
символизм на сцене. И тот же Эллис категорично заявлял, что «символизм на сцене
немыслим. Так же, как невозможна музыка для глаза, другими словами так же, как
невозможна опера!». Но опера существует, а значит, лукавые символисты
подчеркивает проникновение их течения во все сферы культурной жизни.
Все журналы имели библиографический отдел или, по крайней мере, просто
писали рецензии на вновь вышедшие книги. Часть из них мы уже затрагивали.
Остается только добавить, что «Мир искусства» старался не упускать из внимания
книжные новинки, напрямую касавшиеся искусства. Он рецензировал сборники
стихов: А. Добролюбова, К. Бальмонта, В. Брюсова, Б. Николаевского, К.
Феофанова, В. Лебедева, В. Корина, Ст. Пжибышевского, И. Коневского, Д.
Мережковского и других. Рецензированию подвергались сборники статей («Северные
цветы», С. Андреевского, В. Розанова, Ф. Зелинского и многих других), книги по
искусству (А. Бенуа, А. Успенского, С. Вермеля, И. Забелина, г. Новицкого и других),
книги о русских писателях (Пушкине, Фете, Гоголе, Достоевском) и еще многие, и
многие другие издания, связанные с русским искусством.
«Весы» большое книмание уделяли сбориникам стихов поэтов Серебряного
века, символистам - А. Белому, В. Брюсову, А. Блоку, Ходасевичу, Н. Гумилеву,
Ф. Сологубу и другим. Рассматривали философские труды Д. Мережковского и Л.
Шестова, а так же критические очерки Г. Чулкова.
«Золотое руно» так же рассматривал сборники статей, переиздания книг
русских писателей (например, «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева),
очерки и философские труды, а так же иностранные издания.
Особое место занимали статьи о художниках и культурных деятелей их
времени. «Мир искусства» в первую очередь обращал внимание на художников и
скульпторов, а так же коллекционеров и меценатов. Большая и подробная статья
посвящена К. Сомову, одному из мирискусников, самому признанному из них всех в
начале XX века, как отмечает исследователь
«Мира искусства» А. Гусарова. Статью писал А. Бенуа, близкий друг Сомова, но он
старался объективно охарактеризовать художника: «…Это свойство - производить
всегда такое острое и новое впечатление, легче отметить, нежели объяснить.
Лежит ли оно в том, что Сомов в манере излагать свои мысли ни на кого не похож,
или оно заключается в какой-то пикантной особенности его рисунка и колорита,
или же происходит от совершенно необычайного миросозерцания этого художника, от
его характера, так ярко отразившегося в его произведениях». Сам Сомов был
несколько смущен этой статьей, хотя она его и позабавила. Подобного рода статьи
были посвящены умершим в 1899году и в 1902 году художницам, писавшим в народном
стиле - Е.Д. Поленовой и М.В. Якунчиковой. Один сдвоенный номер был посвящен
М.А. Врубелю. «Врубель, - писал Бенуа, - принадлежит к самому отрадному, что
создала русская живопись, вернее, русское искусство, ибо Врубель был одинаково
хорош в живописи, и в скульптуре и в той сфере, которая у нас так неудачно и
глупо называется “художественной промышленностью”…». С ним согласен Н.П. Ге,
который тоже восхищался художником. Дягилев писал о собственном исследовании -
пытался узнать, кто именно написал прекрасные портреты Екатерины II - было несколько художников по
фамилии Шибанов, а так же он писал краткую заметку о коллекционере и меценате
М.А. Морозове. Вообще за все время издания «Мир искусства» написал о множестве
русских художниках и скульпторах, философах и критиках заметки, статьи или
краткие сведения, дав полную картину собственных пристрастий в русском
искусстве.
«Весы» и «Золотое руно» следовали этому примеру, и так же писали и о
своих талантливых современниках и о культурных деятелях прошлого. «Весы» писали
о писателях и поэтах, например о недавно умершем беллетристе Эдуарде Стукине,
который написал множество великолепных баллад, они как раз шли в театрах. Или,
к примеру, некролог Г. Бахману, собирателю старинных книг и поэту.
«Золотое руно», к примеру, писала об умершем недавно современнике,
который был близок по духу модернистам, как считал В. Петров, В.Э.
Борисе-Мусатове, его живописи и тех художниках, которые оказали на него влияние
- Пювисе де Шаванне, Боттичелли. В том же номере мы находим заметку о
Мусоргском, А. Шервашидзе писал об А. Бенуа - как видим, музыканты, художники,
писатели, коллекционеры по-прежнему были в центре внимания модернистов, даже
после прекращения издания их первопроходца.
Наконец, немаловажными были статьи о культурном прошлом России. Здесь,
надо сказать, мирискусникам не было равных по их взглядам. Прежде всего, они
обращали внимание на старинные постройки - архитектуру Петербурга, Москвы и
ряда церквей в различных губерниях Российской империи. Перу А. Бенуа (иногда он
подписывался своим псевдонимом Б. Веньяминов) принадлежит несколько статей о
Петербурге. К примеру, в «Агонии Петербурга» он писал о том, что Петербург и
его окрестности гибнут от постоянных сносов старинных домов и дворцов, а вместо
них строят какие-то немыслимо уродливые здания: «Отчего в Берлине, в Париже
аристократия дорожит такими местами, близкими к городу, по-прежнему живет в них
и украшает их, а у нас все, что было хорошего, пошло теперь под катки и просто
на слом. Нет, художественного чутья в современных петербуржцах искать нечего;
неужели же и при новом поколении будет царить тот же вопиющий вандализм?».
Культурному вандализму он посвятил серию статей под тем же названием.
А. Успенский писал о Патриаршей ризнице - церковной утвари и одеянии
епископов, И. Фомин рассказывал о московском классицизме - какие дома и дворцы
строили архитекторы классицизма, приводя исторические примеры и все это богато
иллюстрировалось фотографиями - как и все подобные статьи мирискусников. Они
писали о Юсуповской галерее, где были собраны старинные картины к. XIX - н.XX века - Бенуа провел настоящую ревизию и разобрал картины
всех мастеров, не скрывая своего восхищения. Эту тему продолжал после «Мира
искусства» «Золотое руно». Например, в 1906 году в строенном номере был помещен
ряд статей А.И. Успенского, посвященный искусству России XVII - XVIII вв.
Примечательно отношение мирискусников к народному искусству России. Мы
уже упоминали об этом, характеризуя выставки. Стоит только добавить, что авторы
журнала подчеркивали важность роли декоративно-прикладного искусства в России и
всячески призывали не дать этому виду искусства исчезнуть.
В своей работе, А. Гусарова замечает, что мирискусники так чтили прошлые
века, потому что считали свое время бледным, неярким, безрадостным и искали в
культуре прошлого как раз то, чего им не достает в действительности - красок,
великолепия, они «хотели возродить давно минувшее». Таким образом они находили
способ уйти от действительности, «спрятаться в ушедших эпохах, как в детской»,
- по меткому выражения Т. Ельшевской. Это проявлялось не только в их журнальной
публицистике, но и, разумеется, в большей мере, в их картинах.
Литературный отдел, как мы обозначили этот вид выше, представляют собой
статьи о русских писателях, поэтах и мыслителях, и сами произведения или
рассказы, печатающиеся на страницах журналов.
В «Мире искусства» таковых было не так уж много. В первый год издания в
«Мире искусства» не существовало литературного отдела. Исходя из его программы,
обозначенной в первом же номере, журнал намеревался придерживаться
исключительно художественной направленности. Но, начиная с 1900 года журнал
включил в свою структуру литературное отделение и открывал его
философско-литературное исследование Д. Мережковского «Лев Толстой и
Достоевский». Литературным отделом заведовал Д. Философов. Позднее именно из-за
противоречий, возникнувших с представителями «богословов», составляющих литературный
отдел, журнал переживет раскол, от которого само объединение «Мир искусства»
так и не оправиться. По справедливому замечанию В.Н. Петрова, «под одной
обложкой появились в свет, в сущности, два отдельных журнала, каждый со своей
независимой проблематикой: один - художественный - с широкой программой,
посвященной современному и старому русской и западноевропейскому искусству;
другой - только по названию “литературный”, а по существу целиком поглощенный
религиозно-философскими вопросами, и по составу участников групповой, даже
кружковой… После 1902 года, когда группа Мережковского создала собственный
журнал “Новый путь”, литературный отдел “Мира искусства” несколько изменил свою
проблематику. Религиозно-философские темы уступили место теоретической эстетике.
В “Мире искусства” стали печататься вожди московских символистов Валерий Брюсов
и Андрей Белый. Но двойственность оказалась неустранимой…». После раскола
журнал существовал недолго. Впрочем, как и «Новый путь». Оба были закрыты в
1904 году.
Напечатание труда Мережковского «Лев Толстой и Достоевский» заняло почти
два года. Мережковский в этой довольно сложно изложенной работе, попытался
посмотреть на двух писателей с четырех углов зрения - как на художников, как на
людей, как на мыслителей и как на проповедников. Он считал, что Толстой обладал
не имеющим себе аналогов художественным талантом «тайного видения плоти», а
Достоевский - тайновидением духа. И оба они проложили дорогу третьему,
ожидаемому гению, второму Пушкину, который призван открыть людям нравственную,
духовную русскую истину. Это, безусловно, богословская работа. Как верно
заметила И.В. Корецкая, Мережковский свел весь свой труд к пропаганде
обновления христианства. «Для формировавшейся идеологии символизма, - пишет
она, - труд Мережковского явился своеобразной энциклопедией; отсюда брали
начало многие идеалистические воззрения символистов в сфере историософии,
социологии, эстетики, морали».
Помимо Мережковского о Достоевском писал еще Л. Шестов, в то время
молодой автор, идеи которого с выходом его первой книги поразили всю мыслящую
интеллигенцию. В «Мире искусства» была напечатана его работа «Достоевский и
Ницше. Философия трагедии» за 1901 - 1902 годы. Это вторая из двух главных
литературно - критических работ «Мира искусства» о значении Достоевского, как
замечает И.В. Корецкая. Автор сравнивает двух великих гениев - русского
писателя Ф. Достоевского и немецкого философа Ф. Ницше. Он считал, что болезнь
Ницше, которой он страдал, была схожа с наказанием Достоевского, той каторгой,
на которую он был сослан и которая продлилась для него в духовном плане всю
жизнь. В этих драматических судьбах двух гениев и стоит искать глубину трагизма
их философских воззрений. Он подробно рассмотрел все их главные произведения,
их личности и их судьбы. Как замечает Щенников Г.К., эти две работы о
Достоевском были вообще первыми попытками осмыслить фигуру писателя и его
творчество в философском плане, от этих двух концепций пошли все остальные
трактовки Достоевского.
Вообще Ф.М. Достоевский крайне почитался мирискусниками. Влияние его
произведений можно заметить во всех теоретических статьях журнала, он казался
им одной из самых значимых фигур в истории русской культуры, и они ставили его
в один ряд с такими важными для них писателями как Пушкин и Гоголь. Как замечает
Г.К. Щенников, «в среде художников и критиков журнала “Мир искусства” Ф.М.
Достоевский был не только одним из самых любимых и почитаемых русских
писателей, но и учителем, оказавшем сильное влияние на мировоззрение этой части
художественной интеллигенции. Произведения Достоевского были частью
воспитавшего ее культурного быта». Мы уже писали выше, что такая важная для
модернистов статья, как «Сложные вопросы. Наш мнимый упадок» была написана под
влиянием идей Достоевского.
О Достоевском писали и «Весы» - постоянные ссылки на него можно найти в
любой статье о русском символизме, который они считали мировым явлением, а так
же в статьях о Мережковском и его книгах, которого они по праву считали
непревзойденным знатоком Достоевского. «Весы» был журналом с упором на
литературу и символизм, как новое направление, поэтому он не мог обойти
взглядом этого русского философа.
«Золотое руно» во втором своем номере поместил статью А. Белого о
писателе, посвященную 25-летию со дня его смерти. Автор отмечает там особенности
Достоевского как тонкого психолога подмечать любые страдания человеческой души,
любые пороки людей и обличать их: «Достоевский знал ужас души нашей, как часто
заглядывал он в нашу душу, когда мы хотели бы спрятаться от взора». В
дальнейшем журнал не раз возвращался к Достоевскому и его произведениям.
Помимо Достоевского модернисты в своих журналах уделяли внимание,
конечно, А.С. Пушкину, который был очень важен для русской культуры, ибо этот
великий писатель был самой спорной фигурой в русской литературе и полемика по
проблемам, связанным с его гибелью и его творчеством не утихли и к концу XIX века. Мирискусники сумели взглянуть
на его роль в истории по-новому. Но к этому вопросу мы еще вернемся и подробнее
рассмотрим его в отдельной главе нашего исследования.
Н.В. Гоголь занимал и мирискусников, и их последователей. В. Розанов
писал о нем, где сопоставлял его с тем же Пушкиным по значимости и фантазии. Но
нашел, что Гоголь все равно неповторим и оригинален в своих работах: «Гоголь
какой-то кудесник. Он создал третий стиль, этот стиль назвали “натуральным”. Но
никто, и Пушкин, не создавал таких чудодейственных фантазий, как Гоголь. “Вий”
и “Страшная месть” суть единственные в русской литературе по фантастичности
вымысла повести и притом такие, которыми автор сообщил живучесть, смысл,
какое-то странное доверие читателя и свое». Мирискусники следили за процессом
обсуждения проектов памятников Гоголю и даже вносили свои предложения, потому
что были не в восторге от тех памятников, которые делали в России.
Инициативу мирискусников восхвалять Гоголя переняли и «Весы» - №4 за 1909
год был полностью посвящен Гоголю, в честь столетия со дня его рождения. А.
Белый писал, что русская душа Гоголя все еще остается неясной для них, Б.
Садовский советовал прекратить вспоминать о русских писателях только в связи с
днями их рождения или днями их смерти, а смотреть на того же Гоголя просто, не
стараясь надевать на него всевозможные ярлыки, как «мистик», «философ» и
другие. В том же году статья о Гоголе вышла и в «Золотом руне» и восхваляла его
как обличителя людских пороков.
Модернисты так же писали о М. Лермонтове, К. Бальмонте, Н. Некрасове, Вл.
Соловьеве, М. Волошине и многих других, подчеркивая их роль в русской культуре,
отмечая их произведения. Из рассказов и повестей, напечатанных на страницах
«Весов» и «Золотого руна» мы видим и иностранную литературу - например, О.
Уайлда, Э. Верхарна, И. Иенсен и других; а так же рассказы М. Кузьмина, повести
З. Гиппиус, Ф. Сологуба и многих других замечательных имен. Присутствовала и
поэзия на страницах журнала, в том числе и в «Мире искусства», который дважды
публиковал на своих страницах стихотворения. Первый раз - в 1901 году, из
сборников символистов - Сологуба, Гиппиус, Мережковского, Бальмонта, Минского,
украсив их графическими рисунками Лансере, Бакста и других мирискусников.
Второй раз - в 1904 году, - это была поэма Пушкина «Медный всадник» с
иллюстрациями А. Бенуа. Все те же поэты и многие другие регулярно появлялись на
страницах «Весов» и «Золотого руна».
Наконец, философские рассуждения, этот последний из обозначенных нами вид
статей, имели место в каждом из журналов. «Мир искусства» стал своего трибуной
не только для оглашения своих принципов и идей, но и для высказывания
богословских суждений, которые не всегда разделяли сами художники-организаторы
журнала. Именно по этой причине в 1902 году возник разлад между
философско-религиозной группой, во главе с четой Мережковских, и самими
художниками - Серова, Коровина, Нурока, самого Дягилева и других, закончившийся
уходом богословов из журнала и образованием нового печатного органа - «Новый
путь».
На страницах журнала В. Розанов писал на самых разных темы - о древнем
Египте, о спектаклях, о Владимире Соловьеве и его идеях, о демонах и богах
Лермонтова, о семье, о слепой вере в Бога, о древних культурах и языческих
богах и еще о многом другом. Признавая меткость и логику рассуждений Розанова,
мирискусники и находили в них много противоречивого. Но они не вступали в
полемику с этим своим сотрудником, по-видимому, полагая, что это ни к чему
хорошему не приведет - отношения с богословской группировкой практически с
самого начала издания журнала были довольно натянутыми. В рецензиях на одну из
его книг Философов замечает, что те читатели, которые понимают и любят его как
писателя, уже не изменят своего мнения о нем. Впрочем, Философов не отрицает,
что Розанов непревзойденный мыслитель и его книги имеют глубоко культурное
значение.
Помимо этого статьи религиозно-философского содержания писала З. Гиппиус
(«Две драмы А. Толстого», «Критика любви. Декаденты - поэты», «Торжество в
честь смерти»), где призывала к исканию своего Бога. Ее идеи были в основном
схожи с идеями Мережковского, что в целом понятно - она разделяла идеи своего
мужа.
«Весы» в свою очередь были трибуной для пропаганды и объяснения
символизма. Все статьи философского содержания писались именно на эту тему.
Разбирая вопрос о мимолетности такого явления, как символизм, Б. Бугаев писал:
«Символизм - это и есть искусство… Все слова о смене символизма реализмом
напоминают детскую свистульку, в которую дуют мальчики, воображающие себя
мудрецами». Эллис писал о врагах символизма: «Имя этим врагам - легион, но всех
их объединяет в настоящий момент одна “идея”: идея о преодолении символизма, а
вместе с тем и искусства вообще… Символизм как мировое явление, как лозунг,
соединивший в себе два смежных века, не только не изжит, но еще далеко не
осознан даже там, где им пущены особенно глубокие корни». Соловьев С. продолжал
убеждать, что символизм в русской культуре надолго: «Символизм не умер. В
России прекрасная почва для его процветания. Еще почти не тронуты сокровища
нашего народного творчества, символы наших былин, наших сказок…». В таком духе
практически все статьи философского содержания в журнале.
В «Золотом руне», придерживающегося намерения охватывать все стороны
культурной жизни, философским рассуждениям отведено небольшое место. Во втором
номере за 1906 год помещена статья А. Бенуа «Художественные ереси», где автор
утверждает, что и в искусстве возможна ересь, что существует настоящее и
ненастоящее искусство. Что интересно, редакция журнала в начале статьи сделала
заметку, что не согласна с теми положениями, которые есть в этой статье, но
помещает ее в журнале, чтобы лучше выразить взгляды Бенуа. Помимо этого
встречаются еще ряд статей на самые разные темы в стиле философского
рассуждения.
На своем этапе творчества мирискусники сумели в журнале отразить все
новое, что возникало в те годы в России. Однако границы их новаторства не были
слишком широкими. Если во Франции символизм переродился в импрессионизм,
постимпрессионизм, авангард, футуризм, то русские «первооткрыватели» символизма
в лице молодых художников в далекие крайности не впали. По слова Сарабьянова
Д.В., «мирискусники не так уж далеко ушли от художников второй половины XIX века. При этом русские мастера
модерна не были здесь особенно оригинальны. В западноевропейских школах модерн
тоже многое воспринял от реализма середины века и в вопросах творческого метода
далеко не во всем противопоставлял себя реализму. Мирискусники не
приветствовали новые направления в искусстве - кубизм или неопримитивизм,
относились с опаской ко всякому новаторству, переходившему через границы,
установленные ими самими». Но мирискусники всегда замечали, что новое
направление всегда когда-нибудь превратиться в старое. И они будут так же
ворчать на своих «детей» за непонятное им самим искусство.
Резюмируя все сказанное, отметим следующее. Взгляд модернистов на русскую
культуру был представлен в их журналах в полной мере. Они затронули все стороны
культурной жизни России. Если «Мир искусства» в основном показывал
общественности отсталость русского искусства и давал советы и примеры, как ее
преодолеть, то «Весы» и «Золотое руно» продолжали начатое мирискусниками, но
надо помнить о том, что «Миру искусства» было много сложнее существовать на
рубеже XIX-XX веков. Они вышли на борьбу с устаревшими формами искусства и
убеждениями совершенно одни, основные «битвы» пришлись как раз на их долю, в то
время, как их последователи появились уже в тот момент, когда с модернистским
направлением начинали примеряться и говорить о том, что явление это временное,
и скоро само собой сойдет на нет. Поэтому «Весы» столь упорно продолжали в
каждом номере отстаивать принципы символизма, а «Золотое руно» продолжало
знакомить с новым в живописи, музыке и других областях искусства. И надо
сказать, что картина русской культуры у модернистов получилась объемной, не
было не упущено ни одной сферы.
В заключении можно констатировать, что анализ содержания модернистских
журналов позволяет нам утверждать о системном представлении ими нового
направления в художественной жизни России, возникшем на рубеже XIX-XX столетия, не имевшего аналогов ни до, ни после себя. «Мир
искусства» в целом выполнил заявленную миссионерскую программу - облагородить
искусство России и поднять ее культурный уровень, познакомить ее с европейским
искусством и культурной жизнью Европы, избавиться от устаревших тенденций в
искусстве. Журнал знакомил Россию с Европой через репортажи о выставках,
публикациях о музеях, художниках, городах и книгах. Не смотря на то, что
мирискусники руководствовались личными пристрастиями, они затрагивали самые
разные стороны европейского искусства. После журнал перестал выходить. В России
модернизм не прекратил своего существования с его исчезновением - символисты
продолжали разработку концепции модернизма в русской литературе и искусстве, но
со своей огромной социально-просветительской задачей модернизм на рубеже XIX-XX справился. Новое поколение не только сумело
самоопределиться, но и занять достойное место в культурной жизни и истории
России.
ГЛАВА 3. ЖУРНАЛЬНАЯ ПУБЛИЦИСТИКА О ЗНАЧЕНИИ А.С. ПУШКИНА В РУССКОЙ
КУЛЬТУРЕ
Александр Сергеевич Пушкин был не только гениальным творцом в истории
русской литературы, он был культовой фигурой - не только своего времени, он
остается таковым и сегодня.
В 1899 году Россия праздновала столетие со дня рождения поэта. Юбилей
отмечался и неформально - на страницах периодической печати. Модернисты в
номере, полностью посвященному поэту, высказали свое мнение о роли Пушкина в
русской литературе. Их взгляды были довольно смелыми и уверенными, как и
большинство декадентских позиций.
Мы полагаем, что эту тему - роль Пушкина, - необходимо рассматривать
более подробно в отдельной главе, как пример одного из споров двух
столкнувшихся во мнениях поколений.
Публикации о Пушкине в конце XIX века можно свести к двум общим темам:
- поэзия Пушкина в культурном диалоге времени;
- гибель (или судьба) Пушкина. Здесь присутствовал прежде всего
биографический интерес.
Мы намерены рассмотреть обе эти категории в отдельности.
.1 Полемика конца XIX -
начала XX вв. В периодической печати о поэзии
А.С. Пушкина
Поэзия А.С. Пушкина стала предметом обсуждения еще, вероятно, при жизни
поэта. За прошедшее столетие со дня его рождения взгляды на его поэзию менялись
- от восхищенно-благоговейных до скептически-отрицательных (вспомним здесь
беспощадную критику Писарева). Пушкин остается великой и одновременно спорной
фигурой и в наши дни. В связи с юбилеем поэта в 1899 году разгорелась и новая
полемика. Модернисты, которые как раз в эти годы стали выпускать свой журнал,
не могли оставить без внимания фигуру Пушкина и оживленно вступили в полемику с
более мастистыми публицистами, писавшими о Пушкине. Дело было не только
в юбилее, но и в том, что в полемике о старом и новом нужны были центральные
символы, выражающие национальный колорит художественной жизни. Пушкин был таким
символом. И модернисты это прекрасно осознавали, вступая в эту полемику.
Главным их оппонентом здесь выступал Владимир Соловьев, по меткому выражению А.
Пайман, «нравственный гигант своего времени». Гальцева Р.А., занимающаяся
исследованием взглядов на Пушкина в среде философов конца XIX - начала XX века, писала об этом времени: «Может быть, из всего,
когда-либо сказанного о поэте как о личности и мыслителе самое близкое ему по
духу выражено именно здесь… Не русская словесность “серебряного века”
оказывается главной наследницей классической литературы - для этого она слишком
нестойка, морально двусмысленна, слишком подвержена дионисийским соблазнам.
Преемницей русской литературы оказывается именно философская мысль, она
наследует духовные заветы “золотого века” классики и потому сама переживает
“золотой век”».
В 1896 году вышла небольшая работа Д. Мережковского «Пушкин», где автор
попытался разобраться в поэзии и судьбе великого поэта. По мнению
Мережковского, о творчестве Пушкина сложно судить однозначно, ибо в отличии от
европейских гениев, наподобие Данте или Гете, Пушкин не оставил какого-то
одного, «главного произведения», где мог бы сказать миру все. Мережковский
очень подробно исследовал творчество поэта. Но к какому-то окончательному,
новому мнению он не пришел.
В своей статье «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» В. Соловьев
попытался доказать связь поэзии Пушкина с духовной миссией, возложенной на него
судьбой. У Пушкина, считает Соловьев, «была просто живая, открытая,
необыкновенно восприимчивая и отзывчивая ко всему душа - и больше ничего.
Единственное крупное и важное, что он знал за собой, был его поэтический дар;
ясно, что он ничего общезначительного не мог от себя заранее внести в поэзию,
которая и оставалась у него чистой поэзией, получившею свое содержание не
извне, а из себя самой». Соловьев, конечно, восхищается стихотворениями
Пушкина, как и любой русский человек. Его отношение к поэту заметно и в статье:
«Лично Пушкин был бесспорно умнейший человек; блестящие искры его ума рассеяны
в его письмах, записках, статьях, эпиграммах и т.д. Все это очень ценно, но не
здесь бесценное достоинство и значение Пушкина; он нам безусловно дорог не
своими умными, а своими вдохновенными произведениями».
В своей работе Соловьев поднял две проблемы, связанных с творчеством
Пушкина. Первой была проблема «народности» поэта - был Пушкин певцом народа или
же нет. Проблема эта была поставлена давно - еще до Соловьева этим вопросом
задавались многие исследователи. Например, Л. Толстой в 1898 году в своем труде
«Что такое искусство?» обосновывал мысль, что простой народ, так же, как и
дети, понимает, ценит и уважает физическую силу и физическое совершенство, а
так же силу нравственную. Эстетические тонкости различных искусств народу, как
и детям, недоступны. У Толстого народ ценит нравственность, но не поэзию. О
«солнце русской поэзии» Толстой довольно критично отозвался. Он подчеркивает,
что народ даже не знает кто такой Пушкин и к чему вся эта шумиха вокруг этого
имени. Толстой приводит эпизод, когда к нему обратился некий саратовский
мещанин, желающий узнать, кто такой А.С. Пушкин и почему ему ставят памятник:
«В самом деле, надо только представить себе положение такого человека из
народа, когда он, по доходящим до него газетам и слухам узнает, что в России
духовенство, начальство, все лучшие люди России с торжеством открывают памятник
великому человеку, благодетелю, славе России - Пушкину, про которого он до сих
пор ничего не слышал. Со всех сторон он читает или слышит об этом и полагает,
что если воздаются такие почести человеку, то, вероятно, человек это сделал
что-нибудь необыкновенное, или сильное, или доброе. Он старается узнать, кто
был Пушкин, и, узнав, что Пушкин не богатырь или полководец, но был честный
человек и писатель, он делает заключение о том, что Пушкин, должен был быть
святой человек и учитель добра, и торопиться прочесть или услыхать его жизнь и
сочинения. Но каково же должно быть его недоумение, когда он узнает, что Пушкин
был человек больше, чем легких нравов, что умер он на дуэли, т.е. при покушении
на убийство другого человека, что вся заслуга его только в том, что он писал
стихи о любви, часто очень неприличные…». Эти строки вызвали негативное
отношение к Толстому практически всех в преддверии юбилея. Мы еще вернемся к
этому ниже. В своей статье Соловьев разбирается с самим понятием «народ». В
стихотворении «Чернь»* Пушкин позволил себе следующие строки:
Поэт на лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.
Он пел - а хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.
«Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?…»
Соловьев с иронией отмечает, что исследователи до сих пор не могут найти
объяснение этим строкам. Либо Пушкин так не любил народ, считая его «тупым» и
«непосвященным», что его никоим образом нельзя считать народным поэтом. Либо
Пушкин под «чернью» подразумевал свое окружение, высший свет. «Между тем, -
пишет Соловьев, - назло очевидности, не позволяющей принимать в буквальном
смысле слова “чернь” и “народ”, Пушкина до сих пор одни восхваляют, другие
порицают за его аристократизм по отношению к народу! А с другой стороны, его
вражду к этой “черни» пытаются истолковать наоборот, в смысле
антиаристократическом, разумея под “чернью” - “светский круг” общества, будто
бы преследовавший Пушкина. Но если поэт не мог иметь враждебного столкновения с
простым народом из-за поэзии, этому народу неизвестной, то он не мог враждовать
и против того общественного слоя, к которому принадлежали его лучшие друзья и
самые восторженные ценители его поэзии. Значит, враждебная поэту толпа вовсе не
имеет, да и не может иметь сословных или вообще социальных признаков. Это есть
не общественная, а умственная и нравственная чернь, - люди формально
образованные и потому могущие вкривь и вкось судить о поэзии, но по внутренним
причинам неспособные ценить ее истинного значения, требующие от нее рабской
службы практическим целям. К этой черни менее всего могут принадлежать,
конечно, земледельцы, пастухи и ремесленники, не ради их мнимого
демократического преимущества, а просто по отсутствию у них (особенно во
времена Пушкина) всякого формального образования, вследствие чего, не имея о
поэзии никаких мнений, они не могут иметь и ложных». Как видим, Соловьев
отметает упреки Пушкину в его пренебрежении к народу.
Но необходимо ли истинному поэту быть народным? Соловьев полагает, что
это не столь уж обязательно. «В поэзии вдохновенный поэт есть царь. Здесь, как
истинный царь-самодержец, он не зависит от “народа”, не слушает его, не
угождает ему и для своего собственного дела, для вдохновенного творчества, не
нуждается ни в чьем постороннем внушении и не подчиняется никакому постороннему
суду». И при жизни поэта, и сегодня, полагает Соловьев, Пушкин остается поэтом,
гением, способным синтетически отражать жизнь, творцом, но не народным
любимцем. И все же наступит время, и Пушкин будет всенародно любим. Поэт сам
предвидел это: «…Взор его видит большой народ, - потомство его поэзии, ее
будущую публику. Этот большой народ, конечно, не та маленькая “чернь”, светская
и старосветская, что его окружает. Этот новый большой народ не вырывает гневных
слов у поэта, эти народные колыбели не противны его душе, как живые гробы. В
этом большом народе есть добро, и оно дает добрый отклик на то, что найдет
добрым в поэзии Пушкина. Поэт не провидит, чтобы этот большой народ весь
состоял из ценителей чистой поэзии: и эти люди будут требовать пользы от
поэзии, но они будут искренно желать истинной пользы нравственной; навстречу
такому требованию поэт может пойти без унижения: ведь и чистая поэзия приносит
истинную пользу, хотя и не преднамеренно». Все эти выводы Соловьев почерпнул из
знаменитого «Памятника» Пушкина.
Проблема «народности» поэта волновала, в целом, любого, кто брался писать
о Пушкине. П.А. Тверской написал в «Вестник Европы» статью о праздновании
пушкинского юбилея женским читальным клубом в Калифорнии. Прочитав на этом
празднике лекцию о Пушкине, он пришел к выводу, что Пушкин все же не понятен
иностранцам. «Пушкин, не смотря на свой французский язык, камер-юнкерский
мундир и аристократическое воспитание и времяпровождение, был действительно
великий русский народный писатель, понять которого вполне может только истинно
русский человек, выросший и созревший в тех же жизненных условиях…». И Тверской
под выделенным им «народным писателем» понимает именно близость Пушкина к
народу: «У американского народа нет ни деревней, ни средней собственной
истории, нет и народного эпоса, нет легенд, баллад, саг и сказок». Нет ничего,
чем жил и о чем писал Пушкин.
Некий А.П. в том же «Вестнике Европы» за 1899 год в «Литературном
обозрении» вновь касается этой проблемы, характеризуя пушкинскую литературу,
выпущенную к юбилею. Он пишет: «Некогда, лет сорок назад шел однажды в
литературе спор о том, можно ли назвать Пушкина поэтом народным. Вопрос был в
сущности двусмысленный. Что Пушкин был поэт русский и даже исключительно
русский, в этом нет сомнения; но название “народного” поэта возможно было бы
только тогда, когда поэт был бы действительно известен народу, притом не только
по школьной книжке, где было бы помещено несколько легких стихотворений. Вся
наша литература не может называться народной в действительном смысле слова, по
той простой причине, что она имеет дело с понятиями, известными людям
некоторого образования, но совершенно недоступными обыкновенному уровню понятий
народных».
Как видим, общего однозначного мнения о «народности» Пушкина в исследовательской
литературе так и не обозначилось. Но свое мнение по этой проблеме высказали и
модернисты. В «пушкинских номерах» мирискусники подготовили несколько
публикаций, часть которых напрямую затрагивали именно этот вопрос.
В. Розанов в статье «Заметка о Пушкине» писал: «Отношение в древнем мире
Гомера к позднейшим трагикам может дать аналогию отношения у нас Пушкина к
последующим главным творцам. Гомер богаче и роскошнее порознь Эсхила, Софокла,
Эврипида. Но пришел нужный день - и из лона земли вышли Эсхил, Софокл Эврипид,
чтобы сменить и оставить лишь в качестве школьного научения, а не живого
руководителя толпы, священного рапсода. Пушкин по много-гранности, по
все-гранности своей - вечный для нас и во всем наставник. Но он слишком строг.
Слишком серьезен. Это - во-первых. Но и далее, тут уже начинается наша правда:
его грани суть всего менее длинные и тонкие корни, и прямо не может следовать и
не в чем не может помочь нашей душе, которая растет глубже, чем возможно было в
его время, в землю, и особенно растет живее и жизненнее, чем как он сам рос.
Есть множество тем у нашего времени, на которые он, и зная даже об них, не мог
бы никак отозваться; есть много болей у нас, которым он уже не сможет дать
утешения; он слеп “как старец Гомер” - для множества случаев. О, как зорче…
Эврипид, даже Софокл; конечно зорче и нашего Гомера Достоевский, Толстой,
Гоголь. Они нам нужнее, как ночью, в лесу - умелые провожатые. И вот эта
практическая нужность создает обильное им чтение, как ее же отсутствие есть
главная причина удаленности от нас Пушкина в какую-то академическую пустынность
и обожания. Мы его “обожали”, так поступали и древние с людьми, “которых нет
больше”…». Розанов пытался донести мысль, что Пушкин не только не может
считаться народным писателем - он вообще практически не читаем сегодня теми,
кто читал его еще вчера. Чем больше времени проходит с его гибели, тем меньше
он нужен людям. Во многом Розанов был прав, и не только о ситуации конца XIX века. Сегодня схожая картина. Пушкин
был далек от народа, от большинства людей. Его знали, его чтили, но не ощущали
его в роли учителя и наставника.
Розанов пишет, что Пушкин весьма легкомысленно относился к творчеству как
таковому, по ночам он мог играть в карты, в то время, как Лермонтов,
Достоевский, Толстой и Гоголь использовали каждую свободную минуту на то, чтобы
писать. По мнению Розанова, Пушкин был «больше ум, чем гений».
Соловьев крайне презрительно отозвался на эту статью. Он полагал, что с
Пушкиным нет смысла сравнивать всех этих писателей: «Как единичное
сопоставление, это было бы так же малоинтересно, как и то, что когда Пушкин
писал “Роняет лес багряный свой убор”, Гоголь, может быть, строил гримасы
какому-нибудь своему нежинскому профессору, а Лермонтов бегал за своими
кузинами. А если бы сопоставление г. Розанова можно было обобщить, т.е., что
Пушкин будто бы постоянно играл в карты по ночам, а в это время его якобы
антиподы, которых “нудило” к перу и писменному столу, прилежно занимались
поэзией, то ведь если бы этим что-нибудь доказывалось, то разве только что
прямо противоположное тому, к чему клониться заметка г. Розанова, -
доказывалось бы, что Пушкин был, подобно Моцарту, “гуляка праздный”, но
очевидно гениальный, если постоянная игра и гульба с приятелями не помешала ему
дать в поэзии то, что он дал, а его три-четыре антипода оказались бы вроде
Сальери, художниками трезвыми и усердными, но не столь гениальными…». Но
Розанов, как замечает Соловьев, как раз утверждал обратное, а это просто
путаница получилась!
Не согласен Соловьев и с тем, что Пушкин чужд для сегодняшних людей:
«Когда г. Розанов говорит, что Пушкин нам не нужен, то вопрос может быть только
о точном определении тех “мы” от имени которых он это говорит. Но, во всяком
случае, ненужность Пушкина для этих “мы” неужели происходит от того, что он был
слишком строг, слишком серьезен?». Соловьев позволяет себе здесь выступать
более, чем критично - он избирает свою любимую тактику, позднее до совершенства
отточеную в рецензиях на символистов, - он «придирается» к словам и
предпочитает нападать на автора, всячески его принижая. «О Пушкине мы здесь,
конечно, ничего не узнаем, - пишет он. - Ничего не узнаем и о противоположных,
будто бы, Пушкину позднейших русских писателях. Излияния г. Розанова дают
достаточное понятие лишь об одном писателе - о нем самом. С удивительной
краткостью и меткостью характеризует он свое собственное творчество, воображая,
что говорит о Лермонтове: “Что пишу? Что написал? Даже и не разберешь: какой-то
набор слов, точно бормотание пьяного человека”». Примечательно, что, как
замечает критик К. В. Мочульский, Соловьев и Розанов, поссорившись в начале
90-х годов XIX века, к концу этого десятилетия
стали друзьями или «братьями по духу», как называл их сам Соловьев. Как видим,
в пылу полемики места дружбе не находилось.
Позднее, в 1902 году Розанов в «Мире искусства», когда писал статью о
Гоголе, упоминает о существующих в русской литературе трех художественных
стилях - карамзинском, пушкинском и гоголевском. По его мнению, Карамзин
показал Россию через своеобразное зеркало, которое и льстило, и манило. Пушкин
был мудрее своего предшественника, он разбил зеркало Карамзина, а взамен
внешности дал красоту внутреннюю, «потащил душу на лицо». Он показал красоту
души русского человека, он раскрыл эту душу. В этом его огромная заслуга.
Именно поэтому он - народный поэт.
Тему «народности» Пушкина подхватывает Д. Мережковский. Он первый из
модернистов заметил, что празднества по поводу юбилея Пушкина по меньшей мере
выглядят нелепо. Народ, который поэта совсем не знает, должен сдавать деньги
ему на памятник, гулять и веселиться в его честь, не понимая, даже, кто это
такой. Все эти восторги и торжества нужны только неуемным ловкачам (например,
Суворину, редактору газеты «Новое время»), которые делают на юбилее тиражи
газет и деньги, выпуская «пушкинский шоколад», устраивая «пушкинские
велосипедные гонки», заказывая «40 000 гипсовых пушкинских бюстов» и так далее.
Что бы сказал на это сам поэт? «Но великий писатель сказал свое слово, - пишет
Мережковский, - ему прибавить нечего, и он не возьмет его назад, так же, как
саратовский мещанин, сошедший с ума на “поганом идолище”, на “монаменте”
Пушкину. Теперь, когда все говорят, Л. Толстой безмолвствует, и вместе с ним,
по выражению Пушкина, - “народ безмолвствует”. Между этими двумя немыми становиться
жутко». Как видим, Мережковский возмущается словами Толстого о ничтожности
Пушкина. Но Толстого многие тогда упрекали за эти слова. Тот же Соловьев, не
вставая на защиту писателя, замечает, что мнение Толстого как замалчивалось,
так «почтительно замалчивается и теперь». Впрочем, по мнению К.В. Мочульского,
Вл. Соловьев просто не выносил Л. Толстого - ни как писателя, ни как философа,
ни как критика. Разумеется, на защиту его Соловьев и не думал вставать и
попросту проигнорировал этот упрек Мережковского.
О самой статье Мережковского Соловьев невысокого мнения: «Дело идет у
него не о Пушкине, а о предметах посторонних - прежде и больше всего о
всемогуществе издателя “Новое время”, который назван великим магом. Все это,
конечно, ирония, но точный смысл ее совершенно неясен». В статье Мережковского,
конечно, больше обиды на редактора «Нового времени», чем разговора по сути
дела. Но в вопросе народности Мережковский подчеркивает, что в эти годы
народность Пушкина подтверждается лишь массовой известностью. Еще в 1896 году в
упомянутой нами работе Мережковский затронул эту тему. Он писал: «Народ и гений
так связаны, что из одного и того же свойства народа проистекает и слабость и
сила производимого им гения. Низкий уровень русской культуры - причина недовершенности
пушкинской поэзии - в то же время благоприятствует той особенности его
поэтического темперамента, которая делает русского поэта в известном отношении
единственным даже среди величайших мировых поэтов. Эта особенность - простота».
Здесь позволим себе разобраться с понятиями. Что значит «народный поэт»? Что
поэт известен народу? Впервые Пушкин стал доступен для широких масс в 1887
году, в связи с круглой датой его кончины (по идеи Суворина, редактора «Нового
времени», было выпущено дешевое издание его стихотворений). До этого о Пушкине
народ вообще не слышал и его, конечно, не читал. Не слишком изменилась ситуация
и после 1887 года, так как грамотность в стране была на очень низком уровне, и
народ попросту не умел читать, в большинстве своем. На наш взгляд, народность
поэта прежде всего выражается в том, отражает ли его поэзия народный дух.
Скажем, Пушкин часто обращался к народному фольклору, и, как никто другой, в
своих произведениях умел показать жизнь народа и его душу. Будучи сам не связан
с ним (имеется ввиду его дворянское происхождение), он тем не менее умел
понимать народ. Здесь мы должны согласиться с Мережковским - с точки зрения
осознания народной сути, Пушкин был народным поэтом.
Н. Минский словно продолжает мысль Мережковского. В своей «юбилейной»
статье он не только подчеркивает равнодушие народа к великому поэту, но и
равнодушие интеллигенции. Мы позволим себе привести эту большую цитату, ибо
взгляд автора довольно необычен на фоне остальных статей о Пушкине. Он пишет:
«…Читая в газетах, что на улице русской литературы готовиться в память Пушкина
небывалый по многолюдству и блеску праздник, в котором должна принять участие
вся интеллигенция России, я невольно спрашиваю себя: кто же, собственно из ее
представителей, какое из шести ее колен, по своим убеждениям, симпатиям и
вкусам встретит Пушкинский юбилей не с равнодушием, как случайное календарное
празднество, а с радостью и гордостью, как единственный по значимости праздник
красоты и духовной свободы? Не наши ли радикалы, выросшие на критике Писарева и
на уверенности, что Пушкин - маленький и миленький версификатор? Не
экономические материалисты, убежденные в том, что вся-то поэзия не более, как
пустошная пристройка, что-то вроде веселого балкончика на солидном здании
экономических отношений? Не просвещенные ли либералы, считающие Пушкина дурным
гражданином, в котором большой талант парализовался мелким характером? Не
консерваторы ли, видящие в Пушкинском празднике главным образом противовес
юбилею Мицкевича и чуть ли не одно из орудий славянского единения? Наконец, не
моралисты ли, не могущие простить Пушкину ни его греховной жизни, ни еще более
его греховной смерти? Кто же, о Господи? Остаются еще символисты. И мне
поистине начинает казаться, что на улице русской литературы готовиться лишь парад
Пушкинского юбилея, праздник же Пушкинской поэзии со всей искренностью и
радостью будет отпразднован лишь в одном из литературных переулков, именно в
том, где обитают поклонники символизма и эстетики». Конечно, версия Минского
довольно наивна, но он хорошо показал размежевание общества даже по такому
вопросу как поэзия Пушкина. Что же говорить о различных эстетических проблемах?
Минский напоминает о якобы забытых трех заветах великого поэта, в которых
было изложено миросозерцание поэта. Первый - что творец (или художник) должен
воспринимать жизнь эстетически, а не рассудком - т.е. «видеть и слышать», а не
«рассуждать и морализировать». Второй - художник должен постоянно тревожить и
«жечь» души людей. Третий - художник должен быть равнодушен к добру и злу и не
навязывать миру «своей правды». По мнению. Минского эти заветы были забыты
писателями практически сразу, начиная с Лермонтова. И вернуться к ним способны
либо символисты, либо «читающая Россия» - но не интеллигенция, это точно, -
полагает автор.
Соловьев был беспощаден к этой статье. «Чтобы сделать Пушкина своим
единомышленником, - пишет он, - г. Минский приписал ему свои мысли, вот и все.
Победа эстетического идеала над этическим - вот одна из творческих идей
Пушкина, смело утверждает г. Минский. Победа инстинкта над рассудком - вторая
из них…Довольно, однако». Здесь трудно не согласиться с Соловьевым. Ведь чтобы
восхвалять символизм, Минский призвал на помощь Пушкина, да и повод подвернулся
как нельзя кстати - его юбилей.
Последняя «юбилейная» статья в «Мире искусства» была написана Ф.
Сологубом. Здесь тема «народности» поэта проходить по всей публикации. «Не
обидно ли, - пишет Сологуб, - что великое имя становиться достоянием топы, у
которой по-прежнему нет ничего общего с тем, кто носил это имя? Непонимание
“тупой черни” столь же грубо, как и в старину, и ее неизменные помышления столь
же, как и в прежние дни, далеки от чистых дум поэта. Что ей до него? Что ей
Пушкин?». как видим, Сологуб здесь тоже обращается к уже приведенному нами
стихотворению Пушкина. Но в понятие «чернь» он объединяет и народ, и
интеллигенцию. Сологуб полагает, что Пушкину нет равных у нас в литературе.
Среди писателей близким к нему может считаться лишь Достоевский и более никто.
«В этой толпе, - пишет он, - которая медленно раскошеливается, тупо соображает,
куда ей лучше нести свои гроши, на его ли медное изображение, на своих ли
голодающих, - в этой толпе, которой священное его воспоминание не стыдно делать
предметом газетной полемики, - в этой толпе все ему чуждо. До такой степени
чуждо, что иногда какие-то вирши выдаются за вновь открытые Пушкинские стихи, и
признаются и нравятся». Сологуб полагает, что такое празднество только
оскорбляет память поэта. По мнению Леа Пильд, которая занималась исследованием
творчества Ф. Сологуба, в своих произведениях он часто обращался к некоторым
темам Пушкина, хотя сам Сологуб великого поэта не любил и, по словам А.
Ахматовой, ему даже завидовал.
Соловьев оставил эту статью без внимания, лишь в конце своей рецензии на
юбилейные номера «Мира искусства» заявил: «Как будто какая-то благодетельная
сила хотела оказать мне двойную услугу: давая мне способ помянуть Пушкина
наилучшим образом*, она вместе с тем избавила меня от всякого, хотя бы невольного и
отдаленного участия в этом покушении…».
Позднее, в 1900 году, В. Гиппиус в своей рецензии на пушкинские сборники,
припомнил и эти споры о проблеме «народности» поэта, и решил тоже высказаться
на этот счет: «Писатель есть само сознание народное, его богоносец. Голос
народа, а не толпы. Это значит - он не отвечает на временные, теперешние нужды,
не приносит прямой близкой пользы, но служит общей пользе мира, той, которая в
разуме вселенской Души, Души, определяемой всем, что мы знаем и видим лучшего и
чистейшего в мире и в себе слышим…» Конечно, Гиппиус не поставил точку в этих
спорах, но завершил высказывания мирискусников на этот счет.
Во многом взгляды модернистов могут показаться наивными. В частности, тот
же Минский старался сделать рекламу символизму, используя Пушкинский юбилей.
Но, как мы уже установили, в первых номерах своего журнала молодые декаденты
стремились как можно громче заявить о себе, и статьи о Пушкине не были
исключением. Но во многих своих высказываниях модернисты были правы. Они сумели
трезво оценить обстановку с празднованием юбилея и развивали мысль отчуждения
Пушкина от сегодняшних им народных масс. Они, обратившись к Пушкину, выражали
многие свои идеи. В этом их тоже упрекали.
Второй крупной проблемой, которую поднимает Соловьев в своем исследовании
поэзии Пушкина - это вопрос веры. Был ли Пушкин верующим человеком, и каково
его отношение к религиям как таковым? «В семи произведениях открывает нам
Пушкин свои мысли , - считает Соловьев, - и свои внутренние опыты
относительного существенного характера и значения поэзии, художественного гения
вообще и настоящего призвания поэта… Три первые, именно “Пророк”, “Поэт” (“Пока
не требует поэта к священной жертве Аполлон”) и “Чернь”… Остальные четыре,
именно: “Поэту” (“Поэт, не дорожи любовию народной”), драматическая сцена
“Моцарта и Сальери”, “Эхо” (“Ревет ли зверь в лесу глухом”) и “Памятник”…».
Соловьев рассматривает названные стихотворения с точки зрения религиозной
тематики. «Несомненно, что Пушкин читал Коран, - замечает Соловьев, - и писал
стихотворные подражания некоторым местам из него…». Но в то же время, Пушкин
«внимательно и с увлечением читал Библию и так же пользовался ею для
стихотворных подражаний…». Соловьев убедительно доказывает, что стихотворения
Пушкина о пророке подразумевают именно библейского пророка. Все его обращения к
этой теме подтверждают тот факт, что Пушкину были крайне близки библейские
легенды. «Поэтическое самосознание Пушкина, созревшее и повышенное в силу
внутренних и внешних причин, облеклось в минуту вдохновения величавым образом
библейского пророка - образом, подходящим, конечно, не ко всему поэту, а лишь к
тому идеальному, свыше призванному, для великого служения предназначенному
поэту, для той высшей потенции творческого гения, которую в этом поднятом
настроении ощущал в себе Пушкин».
Тема религиозности Пушкина волновала не только Соловьева. А.Ф. Кони в
1899 году в своей статье в «Вестнике Европы» пытался разобраться в нравственном
облике Пушкина: «…Говоря о правовых воззрениях Пушкина трудно избежать
необходимости ознакомиться с его нравственными воззрениями и его отношениям к
вопросам веры». Кони тоже попытался рассмотреть религиозные взгляды Пушкина,
эволюцию его отношения к Богу.
Кони пишет, что ранние стихотворения Пушкина создали ему репутацию
«эротического поэта» и «язвительного отрицателя веры». Но на двадцать втором
году жизни в миросозерцании Пушкина наступил перелом. Он обратился к богу и,
можно сказать, открыл его для себя. « “Если человек нападает на идею о Боге и
находит Его в душе своей - значит, Он существует, - развивал Пушкин свой взгляд
в беседах у Смирновой; - Нельзя найти то, чего нет, и самая сильная фантазия
отправляется все-таки от существующих форм”. Поэтому он посмеивался над
упорными усилиями обширной аргументации отрицателей существования Бога». Кони
убежден, что Пушкин вступил на путь религиозный и шел по нему до самого конца
своего.
«Религиозность его проявлялась, - пишет Кони, - не только в удивительных
по форме и силе отдельных стихах и целых произведениях, как, напр., переложении
молитвы святого Ефрема Сирина (“Отцы-пустынники и жены непорочны”), не только в
изображении могучей веры Кочубея, непоколебимой и его горьким концом, но и в
формах, освещенных народным чувством». К слову сказать, это стихотворение -
«Отцы-пустынники и жены непорочны…» чаще всего приводилось как пример обращение
Пушкина к Библии и вере в последние годы его жизни.
На это указывает П. Перцов, который в своей публикации в «Мире
искусства», высмеивая юбилейные статьи «толстых журналов», замечает их
однотипность: «Обыкновенные, не ехидные, напротив, мило-наивные статьи о
Пушкине пишутся так: “Пушкин был великий поэт…” (развитию этой богатой мысли
посвящается первая страница); “но, кроме того, он был и народный поэт…” (две
страницы); “он удивительно откликался на народные идеалы…” (цитируется
“Бородинская годовщина” и “Клеветникам России”); “под его пером… виноват! - под
его гениальным пером ожила наша седая старина” (летописец Пимен); “он воспел
могучего преобразователя России” (цитаты); “но он понимал и душу русской
женщины…” (Татьяна); “после долгого увлечения байронизмом, он вернулся духовно
на родину…” (обязательно и неизбежно цитируются стихи “Художник-варвар кистью
сонной…” без которых, кажется, не обошлась ни одна юбилейная статья);
“удивительно высоко понимал Пушкин свое призвание…” (“Поэту”, “Памятник”); “под
конец его жизни в нем совершился, очевидно, глубокий перелом, приведший его к
высоким религиозным идеалам…” (обязательно цитируется “Отцы-пустынники и жены
непорочны…”, не взирая на то, что это слабое переложение великолепной молитвы
стоит особняком среди последних произведений Пушкина, столь же мало схожих с
ним по настроению, как несравненно более вдохновенный “Пророк” со своими
сверстниками - стихотворениями 1826). В конце концов, два печатных листа
наполнены». Как видим, мирискусники отвергали мнение об уходе Пушкина с головой
в религию в конце его жизни. Но важно суждение Мережковского на этот счет. В
работе «Пушкин» он высказал следующую мысль: Пушкин крайне интересовался
Библией и вопросами веры, но не в силу какого-то внутреннего перерождения он
обратился к религии, а потому, что был народным поэтом. Более того,
Мережковский подчеркивал, что «истинный поэт - служитель вечного Бога». То есть
в силу своего гениального предназначения Пушкин изначально был связан с Богом.
Перцов годом позже в «Мире искусства» рецензировал брошюру В.В.
Никольского «Идеалы Пушкина». Автор брошюры, почтенный академик, к тому времени
уже умер. Его брошюру переиздали уже в третий раз, в честь столетнего юбилея
поэта. Здесь в целом содержались те же идеи, что озвучил в своей статье А.Ф.
Кони - о юношеском безбожии Пушкина, о последующем «усмирении страстей», о
последних годах жизни поэта, когда он начал проникаться «церковностью». В
целом, идея религиозности Пушкина очень увлекала почтенных публицистов,
представителей предыдущего поколения 60 - 70-х гг. Перцов довольно
проницательно замечает: «Кто любит и ищет в Пушкине Пушкина, а не свои
собственные идеи и идейки, тот будет всего более ценить истинный ход духовного
развития поэта и стараться возможно яснее и правдивее его наметить. Но у нас
большей частью Пушкин только “авторитет” для прикрытия собственных взглядов: мы
“деремся Пушкиным”, как родители в “Крейцеровой сонате” “дрались детьми”, и в
то же время кроим несчастного поэта по образу и подобию своему».
Подводя итог всему сказанному, определим главные аспекты. Фигура Пушкина
и его роль в истории русской литературы всегда была и остается предметом споров
и различных гипотез. Как не существует и сегодня единого мнения о нем и его
поэзии, так этого не произошло в конце XIX - начале XX века. В связи со столетним юбилеем поэта в прессе вновь разгорелась
полемика о месте творчества Пушкина в истории русской литературы и культуры.
Главный резонанс вызвала проблема народности, которая понималась большинством
публицистов как связь поэта с народом. Мнения были разные, но каждое из них,
прежде всего, выражало отношение к поэту того, кто писал о нем. Мирискусники
могут считаться ярким подтверждением этих слов. Они обозначили свой взгляд на
поэзию Пушкина, пусть взгляд этот был не нов, но они сумели передать атмосферу
своего времени в среде интеллигенции и свое отношение к творениям великого
поэта.
.2 Проблема вины в гибели А.С. Пушкина в рассуждениях представителей
интеллигенции конца XIX - начала XX века
Судьба Пушкина волновала исследователей едва ли не больше, чем его
поэзия. Речь идет об исследовательском интересе, а не о публикациях, вызванных
интересом со стороны публики. Споры по поводу столь нелепой кончины великого
поэта не утихали и спустя более полувека после дуэли. Здесь присутствует
своеобразный социально-этический акцент - публицистов интересовали отношения
гениального человека с простыми смертными людьми. Проблема эта до сих пор
актуальна. Среди всех версий его гибели, на рубеже XIX - XX
веков особой популярностью пользовались три основных:
- в гибели поэта виновно общество, высший свет и Дантес, как его
представитель;
- в гибели поэта виновна Н.Н. Гончарова, супруга Пушкина;
в своей гибели поэт повинен сам.
Своеобразное начало очередной полемике по вопросу о смерти Пушкина в
конце XIX века положила статья В.С. Соловьева
«Судьба Пушкина». Сам Соловьев полагал, что облегчил себе задачу, написав эту
работу в 1897 году, за два года до юбилея поэта, видимо, предвидя последующие
за этим разногласия с ним в различных журналах.
Статья задумывалась Соловьевым как исследование нравственной стороны
дуэли Пушкина с Дантесом. Объясняя название статьи, Соловьев писал: «Я разумею
пока под судьбой тот факт, что ход и исход нашей жизни зависит от чего-то,
кроме нас самих, от какой-то превозмогающей необходимости, которой мы
волей-неволей должны подчиниться. Как факт это бесспорно: существование судьбы
в этом смысле признается всеми мыслящими людьми, независимо от различия
взглядов и степеней образования… Но вместе с тем легко усмотреть, что власть
судьбы над человеком при всей своей несокрушимой извне силе обусловлена,
однако, извнутри деятельным и личным соучастием самого человека». Что важно,
Соловьев призывает видеть в Пушкине прежде всего человека, но человека
гениального, а гениальность обязывает. «Главная ошибка здесь в том, что гений
принимается только за какое-то чудо природы и забывается, что дело идет о
гениальном человеке. Он по природе своей выше обыкновенных людей, - это
бесспорно, - но ведь и обыкновенные люди так же по природе выше многих других
существ, например животных, и если эта сравнительная высота обязывает всякого
обыкновенного человека соблюдать свое человеческое достоинство и тем
оправдывать свое природное преимущество перед животными, то высший дар гения
тем более обязывает к охранению этого высшего, если хотите, сверх человеческого
достоинства». По мнению Соловьева, Пушкин должен был вести себя в соответствии
со своим гениальным предназначением.
Соловьев убежден, что в Пушкине уживались две души. Одна - душа простого
человека, вторая - душа гения. Первая отвечала за его жизнь и поступки, а
вторая творила. «…В минуту творчества, - писал Соловьев, - Пушкин действительно
испытывал то, что сказалось в этих стихах; действительно видел гения чистой
красоты, действительно чувствовал возрождение в себе божества. Но эта идеальная
действительность существовала для него только в минуту творчества. Возвращаясь
к жизни, он сейчас же переставал верить в пережитое озарение, сейчас же
признавал в нем только обман воображения - “нас возвышающий обман”, но все-таки
обман и ничего более». То есть эти две души Пушкина существовали обособленно
друг от друга - он творил, но будто бы не помнил этого, - точно две души жили
каждая своей жизнью.
Соловьев обращается к проблеме вины в гибели поэта. Он рассматривает
несколько версий, начиная с самой популярной - о вине общества, которое якобы
отравляло жизнь поэта клеветой, травлей и непониманием его творений. Соловьев
полагает, что эта версия неубедительна. «Пушкина будто бы не признавали и преследовали!
Но что же, собственно, не признавалось в нем, что было предметом вражды и
гонений? Его художественное творчество? Едва ли, однако, во всемирной
литературе найдется другой пример великого писателя, который так рано, как
Пушкин, стал общепризнанным и популярным в своей стране. А говорить о гонениях,
которым будто бы подвергался наш поэт, можно только для красоты слога…
Единственное бедствие, - подчеркивает Соловьев, - от которого серьезно страдал
Пушкин, была тогдашняя цензура; но, во-первых, это была общая судьба русской
литературы, а, во-вторых, этот “тяжкий млат, дробя стекло, кует булат”, и,
следовательно, для великих писателей менее страшен, чем для прочих. Внешние
условия Пушкина, несмотря на цензуру, были исключительно счастливыми». Версия о
том, что общество душило поэта позднее стала преобладающей в советской
историографии. Но на рубеже XIX-XX веков она не была столь однозначной.
То, что Пушкин страдал, якобы, от светских сплетен, - это, прежде всего,
вина самого Пушкина, ибо он многое слишком близко принимал к сердцу. Этого ему
не следовало делать, по мнению Соловьева, потому что он должен был помнить о
своем высшем предназначении - гений не должен опускаться до уровня толпы.
Виновата в его гибели не столько общественность, сколько его личные качества:
«Враги Пушкина не имеют оправдания; но тем более его вина в том, что он
опустился до их уровня, стал открытым для их низких замыслов. Глухая борьба
тянулась два года, и сколько было за это время моментов, когда он мог одним
решением воли разорвать всю эту паутину, поднявшись на ту доступную ему высоту,
где неуязвимость гения сливалась с незлобием христианина». Соловьев подводит
читателя к мысли, что именно Пушкин виновен в своей нелепой гибели. Он попал в
жизненную ловушку, когда надо было вызывать на дуэль человека, оскорбившего его
честь - что было делом обыкновенным и обязательным в его время в таких
обстоятельствах. И Пушкин забыл о своем даре, о своем высшем долге - просвещать
людей, нести в мир красоту и гармонию, творить, - и бросился в омут с головой.
Это недостойно гения. «Во время самой дуэли, - пишет Соловьев, - раненый
противником очень опасно, но не безусловно смертельно, Пушкин еще был
господином своей участи. Во всяком случае, мнимая честь была удовлетворена
опасною раною. Продолжение дуэли могло быть делом только злой страсти. Когда
секунданты подошли к раненому, он поднялся и с гневными словами: “Attendez, je me sens assez de force pour tirer mon coup!”* - не дрожащей рукой выстрелил в своего противника и слегка
ранил его. Это крайнее душевное напряжение, этот отчаянный порыв страсти
окончательно сломил силы Пушкина и действительно решил его земную участь.
Пушкин убит не пулей Геккерна*, а своим собственным выстрелом в Геккерна». Последним
мнением Соловьев несколько преувеличил истинную ситуацию. Эти слова вызвали
наиболее резкие возражения со стороны его оппонентов. С медицинской точки
зрения Пушкин не мог ухудшить своего физического состояния выстрелом в Дантеса.
Так что Соловьев просто преувеличил, чтобы с большим эффектом донести свою
мысль.
В конце концов, полагает Соловьев, именно смерть позволила Пушкину, как
гению, достичь духовного сознания, христианского успокоения: «Все многообразные
пути, которыми люди, призванные к духовному возрождению, действительно приходят
к нему, в сущности сводятся к двум: или путь внутреннего перелома, внутреннего
решения лучшей воли, побеждающей низшие влечения и приводящей человека к
истинному самообладанию; или путь жизненной катастрофы, освобождающей дух от
непосильного ему бремени одолевших его страстей. Беззаветно отдавшись своему
гневу, Пушкин отказался от первого пути и тем самым избрал второй, - и неужели
мы будем печалиться о том, что этот путь не был отягощен для него виною чужой
смерти и что духовное очищение могло свершиться в три дня? Вот вся судьба
Пушкина. Эту судьбу мы по совести должны признать, во-первых, доброю, потому
что она вела человека к наилучшей цели - к духовному возрождению, к высшему и
единственно достойному его благу; а, во-вторых, мы должны признать ее разумною,
потому что этой наилучшей цели она достигла простейшим и легчайшим в данном
положении, т.е. наилучшим, способом».
Как мы видим, Соловьев в своей статье отстаивал третью из выделенных нами
версии виновных в гибели поэта. Его статья вызвала множество откликов. По
словам самого автора, его работа «раздразнила гусей разной масти». Среди его
оппонентов выступили и мирискусники, несколько позднее остальных, в юбилейный
год.
Первым был Д.С. Мережковский. В статье «Праздник Пушкина», он, жалуясь на
повсеместное использование имени поэта в преддверии его юбилея, писал: «Но уже
с открытым лицом, с рыцарским прямодушием, выступал В. Соловьев. Ссылаясь на
святоотеческую книгу, Лимонарий св. Софрония патриарха Иерусалимского, объявил
он, что пуля Геккерена была направлена не случаем, а Промыслом… Убийца
невиновен. Пушкин сам себя убил. Или лучше сказать, бог убил его, карая за
безумную ревность, за нарушенное слово императору и за другие безнравственные
поступки. Что посеял, то и пожал, - умер достойной смертью, смертью злодея и
клятвоотступника, осужденный богом. О, конечно, в своем христианском прощении и
незлобии Вл. Соловьев не поддержал бы собственной рукой руку убийцы, не нажал
бы собственным пальцем курок его пистолета. Но теперь, когда казнь свершилась,
когда Геккерен - палач, исполнивший смертный приговор судьи, - Вл. Соловьева,
теперь с безопасной высоты святоотеческого Лимонария на страницах либерального
“Вестника Европы”, Вл. Соловьев со спокойной совестью произносит над памятью
поэта язычника христианскую анафему…». Ради справедливости, следует отметить
тот факт, что Соловьев лишь упоминает Лимонарий св. Софрония, но никоим образом
не опирается на нее, пытаясь доказать свою правоту.
Соловьев весьма спокойно откликнулся на упреки Мережковского. Он заметил:
«…Что касается до меня, то “Судьба Пушкина” при первом своем появлении уже
вызывала единодушную брань всей печати. В чем же та перемена и тот контраст, на
которые указывает г. Мережковский? Это указание, как и все прочие, есть только
дань “пифизму” и ничего более». Под «пифизмом» Соловьев, позаимствовав это
название у В. Розанова, понимает «нечто таинственное» в мире и человеке, что
вот-вот должно раскрыть свою тайну; и это «нечто», по мнению Соловьева,
модернисты возвели в религию и служат этому как божеству. Напомним, что
Соловьев всегда свысока смотрел на своих молодых оппонентов, и никогда их верно
не понимал. Но это свойственно «отцам и детям».
Мережковский несколько раньше уже высказывал свою точку зрения о гибели
поэта. В работе «Пушкин» он писал: «Смерть Пушкина - не простая случайность.
Драма с женою, очаровательною Nathalie, и ее милыми родственниками - не что иное, как в усиленном виде драма
всей его жизни: борьба гения с варварским отечеством. Пуля Дантеса только
довершила то, к чему постоянно и неминуемо вела Пушкина русская
действительность. Он погиб, потому что ему некуда было дальше идти, некуда
расти». По мнению Мережковского, Пушкин все больше склонялся к народу, и
отдалялся от высшего света, чего последний простить ему не мог. В создавшихся
условиях поэт творить больше не мог. Этот взгляд отражает версию вины общества
в гибели поэта и отчасти вину самого Пушкина, ибо он, выдохнувшись, не мог
более творить и сам искал смерти.
В октябре 1899 года в «Вестнике Европы» появилась статья А.Ф. Кони
«Нравственный облик Пушкина». Здесь автор пишет, что, проникнувшийся
христианскими ценностями, Пушкин очень любил людей - всегда помогал неимущим,
нуждающимся, даже если находился сам на грани очередной ссылки. Но в то же
время, погрязшее в лицемерии и фальши светское общество было поэту ненавистно:
«Глубокое отвращение к этой среде, обнимавшей его со всех сторон, почти во всех
проявлениях тогдашней скудной общественной жизни, - жило в душе Пушкина». Толпа
эта душила поэта, по словам Кони, доводя его едва ли не до самоубийства, мыслей
о самовольной ссылке в Сибирь и многого другого. Кони разделяет взгляд
Соловьева на то, что Пушкин следовало бы быть менее ранимым, но он склонен
оправдывать поэта: «…Пушкин, казалось бы, логически должен был дойти до
неуязвимости по отношению к ней. Но в действительности, среди житейских
условий, в которые он был почти безвыходно поставлен, его душа, доверчивая и
нежная, была открыта злобному шипению и изощренным надругательствам светской
толпы».
Пушкин хотел найти успокоение в семейной жизни, считает Кони, но его
последние годы были отравлены клеветой. И дуэль была единственным выходом из
создавшегося положения. Но своего высоко морального, нравственного облика
Пушкин не потерял и в этой ситуации - в свои последние жизненные часы он просил
своего секунданта и друга Данзаса не мстить за него Дантесу. Статья Кони -
яркий пример версии вины общественности в катастрофе 1837 года.
В 1899 году, несколько позднее «юбилейных» номеров, в «Мире искусства»
появилась статья П. Перцова «Смерть Пушкина». «Право, - пишет Перцов, - читая
юбилейную литературу, я оценил знаменитое сальтомортале г. Владимира Соловьева
- его “Судьбу Пушкина”… Г. Соловьева в литературе, можно сказать, растерзали на
кусочки, но это просто наша боязнь самобытности… Мне кажется, г. Влад. Соловьев
верно поставил вопрос и только решил его уж слишком юридически». И, продолжая
свою мысль, Перцов отметает самую популярную версию, которая так нравиться
Кони: «Неужели такое огромное мистическое явление, как творчество Пушкина,
может быть оборвано, потому что этого захотели Геккерн, Бенкендорф,
великосветские старухи? Меня не удивляет, что так могут думать юбилейные авторы
или наши “мыслящие реалисты”, но, с другой стороны, я понимаю, что г. Влад.
Соловьев, подумав об этом, захотел выпрыгнуть из окна». Отзыв г. Перцова на
свою статью сам Соловьев признал «единственным небранным».
По мнению Перцова, большинство исследователей просто не утруждают себя
поисками виновника катастрофы - они привыкли видеть двух действующих лиц драмы,
а так как поэт своей личностью «ослепляет всех», то совершенно естественно, они
бросаются на «крошечного Дантеса, чтобы заклеймить его еще лишний раз новым
проклятием». Перцов оправдывает Дантеса - и сегодня иностранцы не имеют
представления, кто такой Пушкин, что уж говорить о Пушкине при жизни; а,
во-вторых, дуэль есть дуэль. Таким образом Перцов отметает первую из
обозначенных нами версий о вине в гибели Пушкина общества и Дантеса.
Затем Перцов обращается ко второму варианту - к версии о вине Н.Н.
Гончаровой в смерти супруга. Перцов кратко обрисовывает ситуацию со сватовством
Пушкина и пассивность в этом деле со стороны невесты. «Итак, - пишет Перцов, -
ясно сознавая, что невеста к нему равнодушна, что как муж он не даст нужного ей
счастья (ведь не гениальных стихов ей от него было нужно, как нам, читателям, -
этим стихи только мешали ей), он все же не поколебался пожертвовать ею для
себя». Перцов рисует портрет обыкновенной женщины, которой было нужно семейное
счастье с простым любящим и любимым мужем. Пушкин на эту роль не подходил. «Для
нас существует только великий поэт Пушкин, - замечает Перцов, - а для
Гончаровой был живой человек А.С. Пушкин, во всем ей понятном (“карьера и
фортуна”) не совсем удачливый и занятый чем-то ей чуждым и странным, как, в
сущности, ведь и теперь, и всегда была чужда поэзия большинству людей, даже до
юбилейных критиков включительно». Н. Гончарова, считает автор, не виновата в
гибели поэта - она ему не изменяла, Пушкин все это надумал. И разыгралась
обыкновенная, по мнению автора, жизненная драма. Зная, что жена его не любит,
Пушкин извелся ревностью и подозрениями по любому, даже самому ничтожному
поводу. И это свойственно любому человеку. «Ссора с людьми - неизбежное условие
жизни гения, и непосредственно от нее еще никто не погибал. Не погиб и Пушкин
до 37 лет - и не “переступи” он через чужую жизнь безо всякого трансцендентного
для того оправдания, прожил бы, вероятно, как и предсказывало ему двойственное
предсказание, до 100 лет. Центр катастрофы здесь, очевидно, не в общих
условиях, а в частных обстоятельствах его биографии. Если бы гении не были
снабжены особой “покровительственной” анестезией против уколов комариного
человечества, ни один бы не выжил. И Пушкин, и Лермонтов, - обоих львов нашей
литературы - убили люди-комары».
Но Перцов, в отличие от Соловьева, не считает, что раз Пушкин показал
свою человеческую слабость, то это его унизило, как гения. Ни в коей мере. Но
то, что Пушкин - единственный виновник своей смерти, - это так. «На том свете,
конечно, не наказание ждет его, - замечает Перцов. - Напротив: земная Голгофа
“мелочных обид” - нет сомнения - сняла с него земную вину. “Судьба Пушкина”
служит странным оправданием странных и, в общем, едва ли оптимистичных слов
Гете: “Всякая вина находит себе искупление на земле”».
Как видим, версия у Перцова та же, что и у Соловьева, только объясняют
они ее по-разному. У Соловьева - Пушкин был духовно истощен и в дуэли видел
путь к просветлению сознания и собственному духовному спасению, но сам факт
дуэли соловьев признает недостойным гения. У Перцова же Пушкин - прежде всего
человек, который был подвержен страстям, как и все люди, и его гениальная
сущность не являлась для него защитой от подозрений и собственных мучительных
мыслей.
С П. Перцовым решили дискутировать собственные коллеги по «Миру
искусства». Г. Рцы (И. Романов) в 1900 году написал статью «Еще о судьбе
Пушкина», где решил поспорить с Перцовым, ибо полагает, что желание спорить с
писателем подтверждает незаурядность последнего.
Рцы вначале говорит о ставшей популярной после статьи Соловьева теории о
мистическом предназначении, судьбе, которая есть у каждого человека и,
разумеется, у великих тоже: «Прежде всего, что мы знаем, что смеем знать о
делах мистических, “трансцендентных”? Почему Богу угодно поступать так или
иначе - это мы будем решать?.. Не слишком ли смело? А зачем Пушкин умер и как
ему - лучше ли, хуже ли - это, во всяком случае, вопрос, раз мы его голоса не
слышим; а вот что нам плохо, этого никто не будет отрицать, что мы обездолены,
это вполне несомненно. Пушкин совершил “великую вину”, а наказаны…мы, общество!
Где логика?». Рцы тоже приступает к рассмотрению всех трех версий по порядку.
Начинает он с первой - вины общества. «Винить одного, за поступок, который
совершается как норма, - пишет Рцы, - как принцип, который укоренился, как
обычай, - пусть это предрассудок, пусть нелепость, пусть даже гадость, но всеми
принятая, временем, традициями санкционированная в качестве comme il faut*, - верх безумия. Громите общество,
ниспровергайте предрассудок, но не совершайте чудовищной несправедливости по
отношению к этому определенному человеку, который является только пассивной
жертвой предрассудка…». То есть, по мнению г. Рцы, Пушкина не стоит обвинять в
недостойном поступке - по тем временам, поступок был вполне нормален.
К Н. Гончаровой г. Рцы просто беспощаден. Теория Перцова о том, что она
вышла замуж за нелюбимого и страдала всю их совместную жизнь, по мнению Рцы,
просто возмутительна: «Послушайте! Да ведь это ужасная теория! Просто, как муж,
считаю долгом протестовать против таких идей! Ведь этак у каждого из нас,
проживших мирно десяток лет, жена вдруг “нальется соком” и станет вздыхать по
суженом, настоящем, которого она проглядела, не дождалась, решаясь - чтобы в
девках, чего доброго, не засидеться - идти за такое ничтожество, как вы, как я,
как Александр Сергеевич Пушкин! Это Он был плох для Наташи Гончаровой?!! Он не
мог составить ее счастья!!! Все стихи писал…Да неправда, грубая неправда факта!
Это она посылала ему свои стихи, а он в ответ: “да черта ли в стихах! И свои
надоели. А вот что ты еще не брюхата - радуюсь. Впрочем, за этим дело у нас не
станет. На днях возвращаюсь домой. Господь с тобою”. Цитирую по памяти, но,
кажется, дух отношений уловлен. Чудные отношения! Дай Бог каждому из нас найти
такой верный тон, так гениально суметь избегнуть приторности,
сентиментальности, прикрыв грубоватой корою товарищеских угловатостей эту
чарующую нежность, эту сердечность, эту ласку…».
Рцы полностью отвергает мнение, что Гончарова могла быть несчастлива в
браке с таким человеком. То, что подозрения Пушкина относительно жены и Дантеса
не были ложны, г. Рцы абсолютно убежден: «Есть документальные свидетельства, в
чем заключалось ухаживание Дантеса. Он рассказывал жене Пушкина двусмысленные
анекдоты… Можно вообразить себе, как широко в первый раз раскрыла глаза наивная
Наташа… Второй раз смелее, и Наташе уже показалось не так зазорно. В третий раз
она уже смеялась… Забавный такой, blagueur*… Ведь падают не иным образом, как именно так, и не доводите
ваших жен до падения». По мнению Рцы, Пушкин желал видеть в Гончаровой свою
Татьяну из «Евгения Онегина» - ей должно было быть «величавой и недоступной».
Но Гончарова, выведенная в свет, быстро вошла во вкус. И Пушкин столь же быстро
пожалел, что вообще позволил жене вести светскую жизнь.
Чем ценен пример этой статьи для нас, так это тем, что здесь мы видим все
три версии и их аргументацию вины в гибели поэта. По мнению Рцы, виновны и
Дантес, и Гончарова, и Пушкин. «И никаких тут нет мистических розг, -
подчеркивает Рцы. - Да и сама мысль о каких-то мистических розгах глубоко, на
мой взгляд, нечестива. Бесконечное милосердие, неисчерпаемая любовь - вот что
такое наш Отец Небесный. Не клади, Сашенька, пальчик в огонь. Ан, хочу! Ну,
тогда будет больно. Хочу Петербурга! Ну, тогда тебе не избежать и логики
Петербурга, тогда судьба твоя роковым образом вплетется в цепь следствий и
причин, породивших самый Петербург, с его прошлым обществом, былыми нравами,
героями того времени - Дантесами…». Безвыходная ситуация, по мнению автора,
могла бы разрешиться обращением поэта к Богу: «И мы глубоко верим, что если бы
Пушкин опомнился, понял невозможность человечески спастись, если бы он упал на
колени с горячей мольбой: Господи! Спаси меня! Вот польстился я на гнусную
петербургскую ливрею, и вот позорят жену мою, и очаг мой, и дом мой, и нет
прибежища душе моей! Спаси меня, ибо Ты можешь! - наверное, спасся бы». По
мнению Рцы выходит, что вина Пушкина не в том, что он решил вызвать человека на
дуэль, вина его в том, что он пошел на поводу у светской жизни, что он выбрал
эту жизнь и погиб в результате нее. Взгляд г. Рцы во многом наивен, но он дает
представление о том, что и в рядах самих мирискусников не было единства по
вопросу о судьбе Пушкина.
Дискуссия в рядах мирискусников на этом не закончилась. На стороне П.
Перцова выступил В. Розанов. В статье «Еще о смерти Пушкина» за 1900 год, он
пишет: «Когда литература лишается двух величайших гигантов своих одним
способом, равно неожиданно и безвременно, мысль о роковом и страшном невольно
закрадывается в ум. “Тут кто-то шалит”, “это кому-то надо”, “кто-то уносит у
нас величайшие сокровища”, и слова: “судьба”, “немезида”, “рок”, эти
затасканные, но все-таки оставшиеся в памяти человеческой имена, невольно
шепчет язык». Розанов полагает, что Перцов все очень верно, просто и доступно
объяснил в своей статье и тем самым поставил точку в спорах, по крайней мере,
на ближайшее десятилетие.
Розанов обвиняет г. Рцы в возвращении к самой ранней точке зрения о
смерти поэта, которую впервые обозначил М.Ю. Лермонтов в своем знаменитом
стихотворении «На смерть поэта»:
Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет, завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам безбожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?
Сам Розанов полагает, что вина целиком и полностью лежит на поэте: «Я
верю, что Пушкин вспыхнул правдою - и погиб; что он был прав и свят в эти 3-5
предсмертных дней… Но он действительно, как объясняет г. Перцов, был не прав
3-5 предсмертных лет, и… “все произошло так, как должно было произойти”».
Розанов рассматривает трагедию Пушкина под новым углом - когда Пушкин в
молодости писал о мужьях-рогоносцах и счастливых любовниках, ему казалась в
самом деле веселой эта ситуация. Но когда, будучи сам уже мужем и видя, Дантеса
постоянно около своей жены, и чувствуя, что он уже не так молод, как светские
щеголи, Пушкин, прекрасно зная, чем все это может обернуться (ведь он писал об
этом много раз - и в стихах, и в прозе), уже не находил в этом ничего смешного,
он начал ревновать и подозревать как им же написанные когда-то герои: «Почему
же затревожился Пушкин? Веселый насмешник, написавший Нулина и Руслана, вещим,
гениальным и простым умом он почуял, что если “ничего еще нет”, то
“психологически и метафизически уже возможно”, уже настало время ему самому
испить черную чашу и вместе весь непререкаемый и фатальный комизм Черномора ли,
старушки ли Наины… О, ведь дело не в летах именно, а в седине и даже дряхлости
опыта, хотя бы и в 35 лет…».
Розанов призывает всех обвинителей Гончаровой вспомнить слова самого
Пушкина о ее невиновности: «…Вы требуете добродетели?! Плохие психологи. Пушкин
им не был. Начертав эти стихи, он, конечно, конечно понимал, что… ничего-то,
ничевохенько общего между ним и женой - нет, и что тут - не ее вина (слова его
о ней в день смерти: как он ее ценил!), а уж если и есть чья, то, после Бога,
устроившего законы мира и бросив в него солнце в свой путь, луну - в свой же
другой, то еще вина - его, Пушкина, не нашедшего в мире своих путей и не
пошедшего по своим путям». Розанов защищает Гончарову всячески - и сравнением с
той же Татьяной, и доказывая дикую подозрительность поэта. «Конечно, -
заключает Розанов, - Пушкин был виноват перед Гончаровой, и потому что он не
понимал необходимости глубокого индивидуализма семьи, без чего она есть
квартира, но не есть “дом” в лучах религии и поэзии». А негодование Рцы на
Гончарову Розанов объясняет просто страхом Рцы за свою жену и ее возможные
вздохи о ее выборе.
Как видим, в среде интеллигенции конца XIX - начала XX века не было единства по поводу вопроса о виновных в смерти поэта, да
его и не могло быть. Как можно было их найти, когда прошло более полувека со
дня смерти Пушкина. Никаких доказательств не существовало, оставались лишь
догадки, а, как известно, сколько людей, столько и мнений.
Мнения мирискусников о судьбе Пушкина часто не совпадали с мнением многих
представителей «старой гвардии», вследствие чего возникали небольшие полемики,
в результате которых к каким-то общим выводам никто не приходил. Обе стороны
использовали любой повод, чтобы выразить свое несогласие друг с другом, и
Пушкинский юбилей, естественно, не явился исключением.
Подводя итог главе, выделим главное. Пушкин являлся одной из центральных
фигур не только своей эпохи, но всей русской культуры XIX века. Он положил начало новой литературе, и все его
заслуги не давали забыть о нем не только современникам, но и его потомкам. За
несколько лет взгляды на него претерпевали кардинальные изменения. Каждое поколение,
рассматривая его роль, пыталось прийти к каким-то новым, своим выводам. Его
невозможно было обойти вниманием, и мирискусники не переминули высказать своем
мнение о нем. Время появления модернистов совпало с празднованием столетия со
дня рождения поэта, и мнения модернистов встали наравне с мнениями таких
русских величин, как философ В.С. Соловьев или адвокат и общественный деятель
А.Ф. Кони. В вопросе поэзии Пушкина в центре внимания была проблема народности
поэта. И каждый из оппонентов пытался высказать свою точку зрения. Хотя в
большинстве случаев они склонялись к тому, что Пушкин был народным потом,
прежде всего потому, что был связан с ним духовно. Возникшие противоречия,
выразившиеся в полемике по проблеме гибели Пушкина, решены не были, но мы имеем
яркий пример столкновения двух поколений по вопросу о значении Пушкина в
русской культуре.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нашем исследовании мы ставили своей целью реконструировать культурную
проблему традиций и новаций при определении нового художественного направления
в культурной жизни России. Под новым направлением мы подразумевали модернизм
(символизм, декаданс). Мы пришли к следующим выводам.
На рубеже XIX-ХХ веков в
художественной жизни России произошли качественные изменения, вызванные
появившимися и стремящимися утвердиться в искусстве новыми течениями. Их нельзя
толковать однозначно, их достоинство в их многомерности - и в этом же их
недостаток. Появление модернизма было обусловлено определенным духовным
упадком, обозначившимся в среде русской интеллигенции. Этот упадок отразился в
переоценке многих позиций в искусстве - прежде всего, в живописи и литературе.
Многие представители предшествующего модернистам поколения, как мы выяснили,
сами начали вновь обращаться к эстетическим взглядам 40-50-х годов, чтобы прояснить
ситуацию. Во многом появлению модернизма способствовал появившийся как раз в
это время интерес к европейскому искусству. И в эти же годы можно говорить о
появлении нового типа интеллигенции - духовно-развитого и вместо политики
интересующегося красотой, религией и искусством.
Первыми борцами нового направления выступили как раз не литераторы,
которые впоследствии станут главными идеологами и носителями символизма, а
художники. Появившееся в конце XIX
века художественное объединение «Мир искусства» взяло на себя миссию
просвещения России и исканию нового пути развития русского искусства, для
выполнения чего начало выпускать собственный одноименный
литературно-художественный журнал. Главной целью мирискусников стало повышение
эстетического вкуса читателей, которую они намеревались достичь путем
акцентирования внимания на не утилитарных принципах в искусстве, ориентирование
на красоту и ее самоцельное значение. При всем этом модернисты не разрывали
связи с традиционными художественными принципами, но сумели возвести их в новые
формы нового искусства. Они часто обращались к творениям прошлого - не только
словесно, но и в своем творчестве. Однако при этом они не являлись
поверхностными подражателями, а все же новаторами, сумев найти общие тенденции
в развитии национальной культуры и искусстве Европы, соединив традиционные
формы искусства с новым содержанием. И именно на них, мирискусников, пришлась
большая доля критики со стороны вставших к новому направлению в оппозицию
представителей предыдущего поколения. Отсюда идет возникшая в среде
мирискусников необходимость отстаивать теоретические аспекты модернизма. Это
было сделано ими на страницах собственного журнала «Мир искусства».
Полемика шла по многим «вечным» проблемам. В их числе - проблема «отцов и
детей», неизбежное и даже традиционное непонимание и неприятие одного поколения
другим; проблема социальной роли искусства - противоборство утилитарной
эстетики с «чистым искусством»: спор вечный и неразрешимый, модернисты
отстаивали принцип «искусство ради искусства» и служение красоте, в то время
как их предшественники оставались верны принципу полезности искусства. Еще
одной «вечной» проблемой являлся вопрос о связи народа с искусством. Эта
проблема тесно связана с предыдущей. Мирискусники потратили немало сил, убеждая
своих оппонентов в том, что они не отвергают необходимость связи искусства с
народом. Но их противников это не убедило. Наконец, одной из главных спорных
проблем была оценка А.С. Пушкина. Поэт был своеобразным символом культуры XIX века, и его невозможно было не
затронуть в спорах, тем более на волне его 100-летнего юбилея. Главными
спорными моментами были вопрос о социальном значении Пушкина и его статусе
народного поэта, а так же проблема вины в гибели Пушкина. Единого ответа по
всем этим вопросам не существовало - ни среди самих мирискусников, ни среди их
разрозненных оппонентов. Каждый из полемизирующих остался при своем мнении.
Эти «вечные» проблемы, по которым шла полемика, конечно же, остались
неразрешимыми. Но модернисты сумели внести новые подходы к решению этих
проблем. Они не отвергали наследие своих «отцов», а брали из него все самое
лучшее, соединяя это лучшее с новаторскими тенденциями в искусстве; они
отрицали требования быть искусству полезным обществу и отстаивали служение
красоте, но при этом подчеркивали необходимую связь между народом и творцом;
они спорили с Соловьевым о закономерности гибели поэта, но при всем этом в
большинстве своем были схожи с ним же во многих оценках Пушкина.
Но важно здесь другое - молодые модернисты не побоялись вступить в спор и
отстаивать свои взгляды и идеи с известными русскими философами, литераторами,
критиками. Более того, они смогли укрепить свои позиции в русском искусстве и
убедить всех, что они новое направление, призванное достойно сменить старое.
Большой заслугой молодых модернистов был их совершенно особый взгляд на
Европу. Европейское искусство вызывало интерес со стороны русской интеллигенции
и до мирискусников, но последние сумели по-новому отнестись к традициям и
новинкам европейского искусства. Они позволили себе дать такой обширный обзор
западной живописи, музыки, скульптуры, чего больше никто ни до них, ни после
предоставить не мог. Модернисты рисовали для русского общества картину
европейской культуры, руководствуясь личным вкусом и поразительным
художественным чутьем. Тем более что само явление - модернизм, было
заимствованно из Европы, но мирискусники утверждали, что новое направление
подходит и для России, и так же важно для нее. Более того, модернисты
изначально поставили себе задачу, облагородив русское искусство, возвысить его
до уровня европейского, ибо мирискусники были убеждены в мировом значении
русского искусства. Мирискусники одновременно обогатили и усложнили духовную
жизнь России. Вся деятельность первых модернистов во всем состояла из
противоречивых соотношений.
Русский модернизм, таким образом, на начальном своем периоде,
представляет собой удивительное явление в искусстве, которое сумело совместить
уважение и восхищение традициями русской культуры с абсолютно новыми тенденциями,
заимствованными из Европы и хорошо разработанными и прижившимися в России. Не
смотря на глубокое неприятие со стороны предшественников, мирискусники сумели
отстоять свои принципы и идеи, выполнив свою миссию - облагородив русское
искусство.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ.
Источники
Журналы:
.«Вестник
Европы»:
- «Вестник
Европы». 1899. Кн. 7, 9, 10.
2. «Весы»:
- «Весы».
1907. №1-3, 5-8.
- «Весы».
1908. №1-12.
«Весы».
1909. №1-5, 10.
3. «Золотое
руно»:
- «Золотое
руно». 1906. №2, 3,5-12.
- «Золотое
руно». 1908. №2.
«Золотое
руно». 1909. №2-3, 7-10.
4. «Мир
искусства»: все номера (1899-1904).
. «Русский
вестник». 1899. №1-12.
Публицистика:
1. Достоевский
Ф. М. Искания и размышления. М., 1983. 462 с.
2. Мережковский
Д.С. Эстетика и критика: В 2 тт. М., 1994. Т. 1. 672 с.
. Мережковский
Д.С. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. М., 1991. 496 с.
. Розанов
В.В. Сочинения. М., 1990. 592 с.
. Соловьев
В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. 701 с.
. Соловьев
В.С. Литературная критика. М., 1990. 422 с.
. Стасов
В.В. Избранных статей о русской живописи. М., 1985. 239 с.
. Стасов
В.В. Избранное: Живопись. Скульптура. Графика: В 2 тт. М. - Л., 1950-1951. Т.
1. 683 с.
. Толстой
Л.Н. Собрание сочинений: В 22 тт. Т. 15: Статьи об искусстве и литературе. М.,
1983. 432 с.
Мемуары и размышления:
1. Бенуа А.Н.
Мои воспоминания: В 5 тт. М., 1990. Т. 1-3. 1990. 711 с.; Т. 4 - 5. 1990. 744
с.
2. Бенуа
А.Н. Возникновение «Мира искусства». М., 1998 (Репр. издание. Л., 1928.). 70 с.
. Константин
Андреевич Сомов. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979. 626 с.
. Михайловский
Н.К. Литературные воспоминания и современная смута: В 2 тт. СПб., 1900. Т. 2.
504 с.
Издания справочного характера:
1. Европейская
живопись XIII-XX вв. Энциклопедический словарь. М., 1999. 528 с.
2. Русские
писатели. ХХ век. Библиографический словарь: В 2 ч. М., 1998. Ч. 2. 656 с.
. Русские
писатели. 1800-1917. Библиографический словарь: В 8 тт. Т. 4. М., 1999. 704 с.
. Советский
энциклопедический словарь. М., 1990. 1632 с.
. Янсон
Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996. 587 с.
Литература
Монографии:
1. Борисовская Н. Лев Бакст. М., 1979.
119 с.
2. Владимир Соловьев и культура
Серебряного века: К 150-летию Владимира Соловьева и 110-летию А.Ф. Лосева. М.,
2005. 631 с.
3. Воскресенская М.А. Символизм как
мировидение Серебряного века: социокультурные факторы формирования
общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX - XX вв. Томск, 2003. 224 с.
4. Гомберг-Вержбинская Э. Передвижники.
Л., 1970. 236 с.
5. Гусарова А. П. Мир искусства. М.,
1972. 110 с.
6. Ельшевская Г. В. Короткая книга о
Константине Сомове. М., 2003. 153 с.
7. Ермилова Е.В. Теория и образный мир
русского символизма. М., 1989. 176
8. Лапшина Н. П. «Мир искусства». Очерки
истории и творческой практики. М., 1977. 743 с.
9. Лебедев А.К., Солодовников А.В.
Владимир Васильевич Стасов. М., 1966. 188с.
10. Лебедев А.К., Солодовников А.В. В.В.
Стасов. Жизнь и творчество. Л., 1982. 128с.
11. Лебедев А.К. Стасов и русские
художники. М., 1961. 132 с.
12. Литературный процесс и русская
журналистика. М., 1982. 376 с.
13. Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995. 847
с.
14. Мочульский К. Гоголь. Соловьев.
Достоевский. М., 1995. 607 с.
15. Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. Над
страницами духовной биографии Пушкина. М., 1987. 448 с.
16. Пайман А. История русского
символизма. М., 2000. 415 с.
17. Петров В. Н. Мир искусства. М., 1975.
247 с.
18. Передвижники. М.: «Искусство», 1971.
140 с.
19. Русские писатели. Библиографический
словарь в 2 ч. М., 1990. Ч. 2. 446 c.
20. Салита Е.Г., Суворова Е.И. Стасов в
Петербурге. Л., 1971. 384 с.
21. Сарабьянов Д.В. История русского
искусства конца XIX - начала XX века. М., 1993. 320 с.
22. Сарабьянов Д.В. История русского
искусства второй половины XIX
века: Курс лекций. М., 1989. 384 с.
23. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. Истоки.
История. Проблемы. М., 1989. 294 с.
24. Сарычев В.А. Эстетика русского
модернизма. Проблема «жизнетворчества». Воронеж, 1991. 320 с.
25. Сергей Дягилев и художественная
культура XIX - XX вв. Пермь, 1989.184 с.
26. Сибирская пушкинистика сегодня.
Новосибирск, 2000. 385 с.
27. Скрынников Р.Г. Дуэль Пушкина. СПб.,
1999.368 с.
28. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь
России на рубеже XIX - начала XX веков. М., 1970. 293 с.
29. Товарищество передвижных
художественных выставок. Письма. Документы: В 2 тт. М., 1987. Т. 1. 384 с.; Т.
2. 668 с.
Статьи:
1. Гальцева Р.А. По следам гения //
Пушкин в русской философской критике конца XIX - начала ХХ века. М., 1999. С. 5-12.
2. Лапшина Н. П. Мир искусства //
Русская художественная культура конца XIX - начала XX вв.
(1895-1907): В 2 кн. Кн. 2. М., 1969. С. 129-162.
3. Петров В.Н. «Мир искусства» //
История русского искусства. М., 1968. Т. 10, кн. 1., С. 341 - 425.
4. Пильд Л. Пушкин в «Мелком бесе» Ф. Сологуба // www.Ruthenia.ru. 11 с.
5. Федоров-Давыдов А. В.В. Стасов и его значение как
художественного критика // Стасов В.В. Избранные статьи о русской живописи. М.,
1985. С.8-14.
6. Эткинд Е. Единство «Серебряного века»// Звезда. 1989.
№12. С. 185-194.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Информация о культурных деятелях, затронутых в исследовании:*
БЕНУА Александр Николаевич (1870-1960), русский художник, историк
искусства и художественный критик. Сын Н.Л. Бенуа (архитектора). Идеолог
художественного объединения «Мир искусства», со-редактор одноименного журнала
(1904). Художественный руководитель впоследствии «Русских сезонов» (1908-1911),
режиссер (МХТ, 1913-1915). С 1926 года жил во Франции.
ГИППИУС Зинаида Николаевна (1869-1945), русская писательница и поэтесса.
Оказала влияние на формирование раннего символизма. Вместе с мужем, Д.С.
Мережковским сотрудничала с журналами «Мир искусства», «Новый путь», была
известна как художественный критик (писала под псевдонимом А. Крайний). В 1920
эмигрировала.
ГРАБАРЬ Игорь Эммануилович (1871-1960), русский живописец, художественный
критик и искусствовед. Один из авторов журнала «Мир искусства» и один из
основоположников музееведения, реставрационного дела и охраны памятников
искусства и старины.
ДЯГИЛЕВ Сергей Павлович (1872-1929), русский театральный и художественный
деятель. Вместе с А.Н. Бенуа создал художественное объединение «Мир искусства»,
редактор одноименного журнала. Организатор выставок русского искусства,
исторических русских концертов, «великий импресарио» знаменитых «Русских
сезонов» (с 1907 года). Продолжая жить заграницей, создал труппу Русского
балета С.П. Дягилева (1911 - 1929). Умер в Венеции.
КОНИ Анатолий Федорович (1844-1927), русский юрист и общественный
деятель, почетный академик Петербургской АН (1900), выдающийся судебный оратор.
МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич (1866-1941), русский философ и писатель,
его романы проникнуты религиозно-мистическими идеями. Одно время сотрудничал с
журналом «Мир искусства» (1899-1902), редактор журнала «Новый путь» («Вопросы
жизни»), выходившего с 1902 по 1904 гг. Писал так же стихи, критические работы.
В 1920 эмигрировал.
МИХАЙЛОВСКИЙ Николай Константинович (1842-1904), русский социолог,
публицист, литературный критик, народник. Один из редакторов журналов
«Отечественные записки», «Русского богатства».
ПЕРЦОВ Петр Петрович (1868-1947), критик, публицист, искусствовед, поэт,
мемуарист. Сотрудничал с периодическими изданиями «Русское богатство», «Вопросы
философии и психологии», «Мир искусства», «Новое время», со-редактор журнала «Новый
путь» (1902-1904). Был близок к кругу русских символистов. Был издателем и
близким другом В.В. Розанова и Д.С. Мережковского.
РОЗАНОВ Василий Васильевич (1856-1919), русский писатель, публицист и
философ. Писал в целом по религиозно-бытовой тематике. Известны его
литературно-критические работы о Н.В. Гоголе, Ф.М. Достоевском, М.Ю.
Лермонтове. Сотрудничал с различными журналами, в том числе, с «Миром
искусства» и «Новым путем».
СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич (1853-1900), русский философ, поэт,
публицист. Сын С.М. Соловьева (историка). Писал в русле религиозной тематики.
Оказал большое влияние на русский идеализм и символизм. В своей поэзии был во
многом близок символистам.
СОЛОГУБ (наст. имя - Тетерников) Федор Кузьмич (1863-1927), поэт,
прозаик, драматург. Сотрудничал с журналами «Северный вестник», «Мир
искусства», «Весы», «Золотое руно», «Новый путь». Принадлежал к поколению
первых символистов (наравне с З. Гиппиус, Н. Минским, Д. Мережковским).
СОМОВ Константин Андреевич (1869-1939), русский живописец и график. Сын
А.И. Сомова (историка искусства). Член «Мира искусства». С 1923 года жил за
границей.
СТАСОВ Владимир Васильевич (1824-1906), русский художественный и
музыкальный критик, историк искусства, почетный член Петербургской АН (1900).
Идеолог и активный участник творческой жизни «Могучей кучки» и Товарищества
передвижников, боролся против академизма, эстетизма и рутины за реализм и
национальный характер искусства.
ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (1828-1910), граф, русский писатель, почетный член
Петербургской АН (1900). Известен не только своими романами, рассказами и
повестями, но и литературной критикой и борьбой за права человека. Оказал
огромное влияние на мировую литературу и его творчество отразило противоречия
целой эпохи русского общества (1861 - 1900-е гг.).
ФИЛОСОФОВ Дмитрий Владимирович (1872-1940), литературный критик,
публицист, философ. Двоюродный брат С. Дягилева, сын А.П. Философовой,
участницы женского движения в России. Один из ведущих сотрудников журнала «Мир
искусства», руководитель его литературного отдела. Был близок с З. Гиппиус и Д.
Мережковским, сотрудничал с журналом «Новый путь». В 1920 эмигрировал в
Варшаву, где жил и скончался.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Портреты главных участников «Мира искусства» и образцы оформления журнала
«Мир искусства»*

1. Портрет С.П. Дягилева с няней. Рис. Л.С. Бакста. 1906

. Портрет художника А.Н. Бенуа. Рис. К.А. Сомова. 1895

. Портрет В.В. Розанова. Рис. Л.С. Бакста. 1901. (слева)
. К.А. Сомов. Автопортрет. 1909.

. Марка журнала «Мир искусства», придуманная и выполненная Л.С. Бакстом.
1898.

6. Обложка журнала «Мир искусства» за 1902 год. Рис. Л.С. Бакста

. Титульный лист журнала «Мир искусства». Рис. К.А. Сомова. 1903
. Обложка журнала «Мир искусства» за 1899 год. Рис. К.А. Коровина

. Оформление журнала «Мир искусства». 1899. №3-4
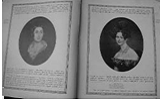
. Оформление журнала «Мир искусства». 1899. №13-14