Ф.М. Достоевский в зеркале русской критики конца XIX начала XX веков
СОДЕРЖАНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ ГЛАЗАМИ РУССКИХ КРИТИКОВ
1.1 Биография
1.1.1 Роман "Бедные люди", Петербургская
поэма "Двойник" и повесть "Хозяйка" в понимании критиков
1.1.2 Романы "Униженные и оскорбленные",
"Преступление и наказание", "Идиот" в критическом
восприятии
1.1.3 Критика 70-х годов XIX века
1.1.4 Критическая сторона последнего романа Ф.М.
Достоевского "Братья Карамазовы"
1.1.5 Отношения критиков к Ф.М. Достоевскому после его
смерти
1.1.6 Ф.М. Достоевский в критике Серебряного века
ГЛАВА 2. О РОМАНЕ "ИДИОТ"
2.1 Графические рисунки как отражение идеи творчества
Ф.М. Достоевского в разных редакциях
2.2 Отзывы критиков о романе "Идиот"
СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЬКУЛЯЦИИ И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗДАНИЯ:
Ф.М. ДОСТЕВСКИЙ "БЕДНЫЕ ЛЮДИ, ДВОЙНИК"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
Выбранная мной тема "Ф.М. Достоевский в зеркале русской критики
конца XIX начала XX веков" состоит из следующего:
. Показать, как менялось отношение критиков к Ф. М. Достоевскому конца XIX начала XX веков.
. Глубже понять и по-новому осмыслить некоторые произведения Ф. М.
Достоевского.
. На материале прошлого сделать выводы в настоящем времени.
В состав дипломной работы входит три части, первая часть теоретическая,
она содержит в себе: введение, основную часть, которая состоит из двух глав и
заключения. Вторая часть экономическая; мной проведен расчет себестоимости и
отпускной цены переиздания сборника: Достоевский Ф. М. "Бедные люди,
Двойник". Третья часть практическая, где я предоставила рецензию на
текстовый оригинал статьи, отредактированные рукописи и рабочие варианты
макетов для газеты "Вузовский вестник".
В первой главе дипломной работы, кроме основной темы, я обратила внимание
на биографию Ф. М. Достоевского: где он родился, в какой семье, какое
образование получил, кем работал.
После кружка Петрашевского он был арестован… и сослан на 4 года в Сибирь,
потратив на каторгу и дисциплинарную военную службу 9 лет. Но именно после
всего ужаса, который пережил писатель, к нам явился новый уже созревший, ни на
кого не похожий русский талант. Помимо своих произведений, Ф. М. Достоевский
выпускает журналы такие, как "Время", "Эпоха" и газету
"Гражданин".
"Время" (1861-1863) - "журнал литературный и
политический" - одно из заметных периодических изданий 1860-х годов.
Издавался в Санкт-Петербурге М. М. и Ф. М. Достоевскими. 18 июня 1860 года
Михаилом Михайловичем Достоевским, старшим братом знаменитого писателя, было
подано прошение в Санкт-Петербургский Цензурный комитет на издание ежемесячного
литературного и политического журнала "Время". Прошение было
удовлетворено 3 июля 1860 года, и в сентябре в газетах появилось
"Объявление об издании в 1861 году журнала "Время"" и его
"Программа". Официальным редактором журнала был заявлен М. М.
Достоевский. Многие фактические редакторские функции взял на себя Ф. М.
Достоевский. Ядро редакционного кружка "Времени" составили, кроме
братьев Ф. М. Достоевских, Аполлон Александрович Григорьев и Николай Николаевич
Страхов.
С января 1861 года "Время" вошло в число толстых петербургских
журналов и вскоре стало соперничать с самыми популярными периодическими
изданиями: только за первый год издания "Время" сравнялось по
количеству подписчиков с "Отечественными записками" и "Русским
словом" (около 4000 подписчиков) и заняло третью позицию по отношению к
двум абсолютным лидерам - "Современнику" Н. А. Некрасова (7000
подписчиков) и "Русскому вестнику" М. Н. Каткова (5700 подписчиков).
Художественный отдел журнала определяли произведения Ф. М. Достоевского.
Здесь были впервые опубликованы "Униженные и оскорбленные",
"Записки из Мертвого дома", а также "Зимние заметки о летних
впечатлениях". Литературную программу "Времени" формировали
произведения Н. А. Некрасова, Я. Полонского, А. А. Григорьева, А. Н. Островского,
Ап. Майкова, переводы из Э. По, Виктора Гюго, а также широкий круг произведений
малоизвестных и начинающих авторов.
Критический отдел журнала стал сферой формулирования его "нового
слова" в литературе - "почвенничества", или "русского
направления", как называла его редакция.
В 1863 г. "Время" было запрещено после появления статьи Н. Н.
Страхова "Роковой вопрос", содержавшей комментарий почвенников к
польскому восстанию, превратно истолкованный властями как
антиправительственный.
"Эпоха" (1864-1865) - журнал М. М. и Ф. М. Достоевских.
Издавался в Санкт-Петербурге. критик роман достоевский
рисунок
После закрытия "Времени" редакция не оставляла попыток
возродить журнал. Разрешения продолжать издание М. М. Достоевский добился к
январю 1864 г. с условием изменения названия.
В "Эпохе" публиковались произведения Ф. М. Достоевского
("Записки из подполья", "Крокодил"), И. С. Тургенева
("Призраки"), Н. С. Лескова ("Леди Макбет Мценского
уезда"), переводная литература.
Круг сотрудников "Эпохи" поменялся по сравнению с
предшествующим журналом. В июне 1864 г. умер М. М. Достоевский, в сентябре того
же года - другой яркий сотрудник "Времени" - Ап. Григорьев. Заботы по
ведению журнала взял Ф. М. Достоевский (официально редактором был утвержден А.
У. Порецкий), что не могло не сократить авторское участие писателя в новом
журнале.
Подписка на "Эпоху" в 1864 г. не превысила 1300 экз. Финансовые
и организационные сложности не позволили "Эпохе" повторить успех
"Времени", и в марте 1861 г. редакция прекратила издание журнала.
Ф. М. Достоевский выполнял редакторские функции в "газете-журнале
политики и литературы" - "Гражданин". Она издавалась в 1872-1914
годах (с перерывом в 1880-81 гг.) в Петербурге кн. В. П. Мещерским. В разное
время выходила с разной периодичностью: еженедельно, два раза в неделю. В 1872
г. в приложении к газете вышел литературный сборник, а с 1883 г. ежемесячное
"Литературное приложение" с публикацией художественных произведений
стало регулярным.
Редакторы "Гражданина" несколько раз менялись: в 1872 г.
"Гражданин" редактировался Г. К. Градовским, в 1873-74 гг. - Ф. М.
Достоевским, затем В. Пуцыкевичем, кн. Мещерским и К. Ф. Филиппеусом.
В разные годы в "Гражданине" появлялись произведения А. Ф.
Писемского, Н. С. Лескова, Ф. И. Тютчева, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского, А.
Н. Апухтина. Политическая программа газеты отличалась подчеркнутым
консерватизмом с ориентацией на аристократические и духовные круги читателей. В
целом, газета не пользовалась широкой популярностью.
Особое значение в истории русской журналистики "Гражданин"
приобрел в связи с участием в нем Ф. М. Достоевского. Помимо редакторских
функций, писатель вел в газете раздел еженедельное политическое обозрение,
печатал фельетоны и др. С первого номера 1873 г. в газете публиковался уникальный
"моножурнал" Ф. М. Достоевского - "Дневник писателя".
В основной части дипломной работы я проанализировала критические отзывы о
таких произведениях, как "Бедные люди", "Двойник",
"Хозяйка", "Униженные и оскорбленные", "Преступление и
наказание", "Идиот", "Подросток", "Братья
Карамазовы". После прочтения дипломной работы, мы видим, как менялось
мнение у критиков к произведениям Ф. М. Достоевского. И как сам Ф.М.
Достоевский на своих произведениях набирался опыта, начиная с романа
"Бедные люди" и заканчивая самым важным в творчестве Ф. М.
Достоевского - "Братья Карамазовы".
В Ф.М. Достоевском увидели реалиста после написании романа "Бедные
люди", В. Г. Белинский оценил талант молодого писателя, думая, что Ф. М.
Достоевский пойдет за его советами. Но писатель методом проб и ошибок шел своим
путем. О повести "Двойник" критики отзывались, что произведение
снабжено ругательством. В романе "Бедные люди" они видели однообразие
и скуку.
Критика 60-х годов встретила Ф. М. Достоевского уже зрелым писателем. Н.
А. Добролюбов отзывался об "Униженных и оскорбленных", что роман
"представляет собой лучшее литературное явление нынешнего года", но
все же он до конца этот роман не принимал. О романе "Преступление и
наказание" говорили, что Раскольников "сумасшедший человек",
"нервная повихнувшаяся натура". Но Раскольников не "сумасшедший
человек". Не совершив самое ужасное преступление в своей жизни, он не
пришел бы к покаянию и не взял в руки Евангелие. Раскольников - прекрасный
человек, потому что страшными душевными муками все же искупил свой грех.
Критики 70-х годов также далеко не все восприняли в
произведениях Ф. М. Достоевского то, что хотел он донести до читателя. Важным
событием начала этих годов является появление романа "Бесы". На
долгие годы роман стал центром споров и обличений. Даже такой писатель и
сатирик, как М. Е. Салтыков-Щедрин не увидел в романе Ф. М. Достоевского, что
мир распадается и чем дальше, тем острей станет протекать этот процесс. В наше
время очень актуальны произведения Ф. М. Достоевского, в особенности роман
"Бесы". И сейчас мир продолжает распадаться как в 19 и 20 веках,
даже, можно сказать, продолжает распадаться на враждующие друг против друга
народы. А ведь в "Бесах" писатель предупреждал о том, что на крови
нельзя построить благополучное государство.
В "Подростке" критики не увидели возрождение
человека. О последнем романе Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы"
писали разные отзывы, одни отзывались, что писатель изобразил в своем романе
"семью уродов", другие - что этот роман заслуживает внимание среди беллетристики.
Но опять же говорили, что его романы внушают скуку, и
что в них нет сюжета. Так для Ф. М. Достоевского дело ведь не в сюжете - даже
современники начинают под конец его творческого и жизненного пути это понимать.
Нет событий - это раздражает: в романе должно происходить нечто; нет фабулы,
одни страсти и психологические тонкости... Вот, что важно для писателя,
психология души человеческой.
В 1881 г. Ф. М. Достоевский умер, первая критика после
смерти писателя продолжила критику прижизненную. В эти же первые годы без Ф. М.
Достоевского была написана знаменитая статья Н. К. Михайловского, заклеймившего
его как писателя "жестокого таланта". Каким единым неприятием
писателя она пронизана вся, от начала до конца.
Совсем по-другому отозвался о Ф. М. Достоевском
философ К. Леонтьев, признав писателя "человеком Церкви". Дальше
критики заговорили, что произведения Ф. М. Достоевского отличаются от
"обыкновенного романиста", они пронизаны христианством, верой и
любовью в Бога, Христа.
Внезапно оказалось, что не только воспевание
"честного труженика" и описание его горькой доли может быть предметом
искусства. Прокладываются пути к философии, мистике, новой эстетике, и вот
тут-то и открылся по-новому Ф. М. Достоевский. В начале XX века и в подготовившие его 90-е годы
века XIX началась грандиозная переоценка
творчества писателя. И прав был Н. Бердяев, когда говорил, что
"Достоевский прежде всего великий антрополог, исследователь человеческой
природы, ее глубины и ее тайн".
В годы Серебряного века и подготовившие их 1890-е о Ф.
М. Достоевском пишут, читают лекции, рассуждают. Ф. М. Достоевского ставят
рядом с именем Л. Н. Толстого, сравнивают столь разные по творческим установкам
и столь близкие по своим масштабам фигуры. А. Белый характеризует Ф. М.
Достоевского как "политиканствующего мистика", которому недоступен
пресловутый "голос музыки". Д. Мережковский считает Ф. М.
Достоевского "пророком русской революции", критик одержим своей идеей
реформирования православия, т. е. реформирования того, что в принципе не подлежит
реформированию.
Более серьезно подходил к пониманию Ф. М. Достоевского
Н Бердяев, он считал Ф. М. Достоевского великим антропологом. М. Горький
говорил о писателе, что он великий мучитель и человек больной совести, который
"любил писать именно эту темную, спутанную, противную душу..."
В целом отношение к творчеству Ф. М. Достоевского на
протяжении всего 20 века менялось: он представлялся критикам то одной гранью,
то другой.
По произведениям Ф. М. Достоевского до сих пор изучают
загадку русской души, особенно иностранцы.
Во второй главе дипломной работы я рассмотрела отзывы
критиков о романе "Идиот". Показала, как Ф. М. Достоевский мучительно
искал положительно-прекрасного героя, который, не совершая никакого
преступления, страдал за людей. Этот образ нам очень хорошо напоминает Христа.
Но опять же критики не приняли роман. Первые две главы второй части были
встречены А. Майковым положительно, но в более позднем письме он упрекнул Ф. М.
Достоевского "в фантастичности лиц". Первая часть романа вызвала у читателей
одобрение, но продолжение "Идиота" принесло много споров. Человек,
который живет прежде всего для других, в обществе считается больным, его
клеймят и называют идиотом.
Ф.М. Достоевский ждал более всестороннего отклика о
романе. Всестороннюю оценку дал М. Е. Салтыков-Щедрин. С одной стороны, он
отозвался, что у писателя вышла попытка изобразить совершено нравственного
героя, но с другой - Ф. М. Достоевский выставляет "в позорном виде
людей", для которых благородные чувства важнее всего.
Но все же роман "Идиот" к середине 1870-х
годов получил признание в читательской среде. И в наше время пользуется
огромной популярностью.
Тема моей дипломной работы связана с будущей профессией редактора и
книгоиздателя. Нельзя не согласится с тем, что, анализируя творчество
автора-классика, осмысливая его произведения и параллельно знакомясь с
биографией автора, редактор лучше понимает психологию авторского творчества,
тем самым, набираясь опыта. А при редактировании тех или иных произведений
молодых авторов редактор, чаще всего, использует в качестве образца для оценки
творчество писателей-классиков. К тому же, Ф. М. Достоевский антрополог, и
изучая его творчество, мы, в то же время, учимся понимать психологию и
специфику индивидуально-авторского подхода при работе над произведением.
ВВЕДЕНИЕ
Осмысление творчества писателя всегда представляет
собой сложный и длительный процесс, который часто идет неровно в силу
невозможности охватить разом то или иное явление культуры. Так случилось с
восприятием творчества Федора Михайловича Достоевского: на протяжении многих
десятилетий он открывался все новым поколением читателей то одной, то другой
гранью своего мира. Каждая новая эпоха открывала для себя его "жестокий
талант". Ф. М. Достоевский проявлялся постепенно в сознании читателей,
пока не выстроилось наконец-то грандиозное здание его художественного наследия.
Я включила в свой диплом таких критиков как В. И.
Кулешов, В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Н. К. Михайловский, Н. А. Бердяев,
Вяч. Иванов, М. Бахтин, Л. Гроссман, А. Луначарский, Г. Покровский и др., а
также отрывки из различных статей газет и журналов.
Каждая эпоха находит своих художников, тех, кто
совпадает с ее философскими, нравственными, политическими, культурными
запросами. Тех, кто не вписывался в эту систему координат, время не принимает -
не считывает информацию, хотя не исключено, что она-то и будет воспринята
грядущими поколениями, которые, возможно, увидят в непонятном и неизвестном при
жизни писателе, живописце или музыканте явные признаки гениальности и
пророческого предвидения.
Когда мы говорим о признании или непризнании, мы не
должны забывать простой истины, гласящей, что читатели - живые люди, также
захваченные мощным влиянием своего времени, своей среды, традиций, что именно
из конгломерата этих составных частей рождается новаторство - для каждой эпохи
оно свое. Критики подвержены этим веяниям, потому что мало кто может выйти за
пределы очерченного круга: для этого как раз и нужно быть гением слова, мысли,
резца, клавиатуры. И нужно обладать очень большой внутренней силой, чтобы
прорвать путы привычных стереотипов и увидеть то новое, что возникает рядом,
прямо перед глазами среди уже пройденного, принятого, ставшего
"правильным". Ф. М. Достоевский с первых своих шагов в русской
литературе оказался обречен на "прорывание" сквозь общепринятые
ценности. Критик, который выступает в поединке с автором как высшее воплощение
с читательского восприятия, оказывается здесь глашатаем читательского отношения
к писателю.
Во второй главе диплома я хочу обратить внимание на графические рисунки
Федора Михайловича Достоевского, "писатель бережно хранил "письменные
книги", где им выполнялись первоначальные записи ко всем написанным и
ненаписанным произведениям, до нас дошли многочисленные графические наброски,
сделанные им в процессе обдумывания "плана" "Преступления и
наказания", "Идиота", "Бесов", "Подростка",
"Братьев Карамазовых"" [1, 209].
Мною рассмотрен роман "Идиот", я показала, что писали о нем
критики. Как мучительно Федор Михайлович искал положительно-прекрасного
человека, как он свои поиски изобразил в рисунках. Мы увидим постепенное
изменения героя от злого, бездушного к светлому, верующему в Господа, можно
сказать о святом человеке - о Богочеловеке, позже этот образ Ф. М. Достоевскому
пригодится в последнем его романе "Братья Карамазовы".
ГЛАВА 1. Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ ГЛАЗАМИ РУССКИХ
КРИТИКОВ
1.1
Биография
Из всех критиков самый великий,
самый гениальный, самый непогрешимый - время.
В.Г. Белинский
Ф.М. Достоевский [1821-1881] - родился в Москве в семье лекаря, Михаила
Андреевича Достоевского, происходившего из духовного звания. Это была
патриархально-мещанская семья интеллигентного работника дореформенного времени.
В обстановке строгой семейной субординации, весьма умеренного материального
достатка, покупаемого неустанным трудом и расчетливостью, среди вечных толков о
бедности, от которой одно спасенье в знании и труде, протекли детские годы
будущего писателя. Труженик-интеллигент, отец Ф. М. Достоевского стремится
воспитать таких же работников интеллигентного труда в своих детях. С раннего
детства их приучают к книге, внушают к ней любовь и уважение. 14-летним
мальчиком Ф. М. Достоевский попадает в одно из лучших частных учебных заведений
Москвы, пансион Чермака, по окончании которого [в 1837] отец отправляет его для
продолжения образования в Петербург, в Главное инженерное училище. Тогдашний
Петербург резко отличался от Москвы, где протекало детство Ф. М. Достоевского.
Москва все еще сохраняла патриархальный уклад, которого крепко держалась семья
писателя. Петербург был уже настоящим капиталистическим городом, ареной
ожесточенной классовой борьбы, разрушавшей сословные перегородки, будоражившей
человеческую психику соблазном карьеры и фортуны. Для молодого Ф. М.
Достоевского началась тревожная жизнь. Бедный студент, испытывающий хроническую
нужду в копейке, охвачен лихорадкой честолюбия, во сне и наяву грезит о
богатстве и славе. Он ждет, не дождется, когда кончатся годы семейной и
школьной опеки и он, свободный, ринется в борьбу за осуществление своих честолюбивых
мечтаний. Выпущенный в 1843 г. из Инженерного училища Ф. М. Достоевский
поступает на действительную службу в инженерный корпус. Но служба мелкого
чиновника ему не улыбается; уже через год Ф. М. Достоевский выходит в отставку.
Он носится с фантастическими проектами предприятий, по его расчету, обещающих
скорое обогащение; возлагает большие надежды на свои литературные начинания. В
крохотной петербургской комнате мелкий, да еще отставной, чиновник, окруженный
столичной беднотой, мечется в горячке своих мечтаний. Предпринимательские
проекты оказались радугой мыльных пузырей: богатство не давалось в руки. Но
счастье литературного успеха улыбнулось Ф. М. Достоевскому в 1845 г., он
заканчивает свой роман "Бедные люди", рукопись которого через посредство
дружившего с ним Григоровича попадает в руки Н. Некрасова. Восхищенный
произведением Ф. М. Достоевского, Н. Некрасов передает рукопись В. Г.
Белинскому, у которого она находит столь же восторженный прием. В 1846 г.
выходит в свет это первое произведение Ф. М. Достоевского, и В. Г. Белинский
пишет о нем статью, как о самом выдающемся произведении своего времени.
Безвестный бедный чиновник становится сразу звездой первой величины. О нем
пишут, говорят, ему льстят, с ним ищут знакомства, его вводят в великосветские
салоны. Но судьба вознесла гениального мещанина на вершину славы лишь для того,
чтобы заставить его больнее переносить щелчки сословного неравенства. Ф. М.
Достоевский скоро почувствовал, что его плебейская фигура в великосветских
салонах играет роль вороны в павлиньих перьях, над которой втихомолку
подсмеиваются светские остряки. Осознавши в себе гения, плебей остро осознал в
себе и члена социально-униженной касты. Он закипел обидой и гневом и резко
порвал с аристократическими почитателями его таланта. Созревшее в душе Ф. М.
Достоевского чувство социального недовольства сближает его с кружком более
близкой ему демократически и протестантски настроенной интеллигенции,
группировавшейся около Петрашевского.
Сближение это дорого обошлось Ф. М. Достоевскому. Арестованный в 1849 г.
вместе со всеми петрашевцами, он по приговору царского суда, переживши на
эшафоте весь ужас готовящейся свершиться смертной казни, был отправлен в
каторжные работы в Омский острог. За коротким периодом славы последовали долгие
годы последнего унижения. Целых 9 лет, с 1850 по 1859 гг., ходит Ф. М.
Достоевский по мытарствам Сибири, сначала отбывая 4 года каторги, потом 5 лет
дисциплинарной военной службы. По окончании каторги, еще в Сибири, Ф. М.
Достоевский возвращается к литературной работе. Здесь под свежим впечатлением
пережитого начаты им "Записки из мертвого дома". С 1859 г. Ф. М.
Достоевский снова появляется в печати; в "Русском слове" за этот год
идет его большая повесть "Дядюшкин сон", а в "Отечественных
записках" - роман "Село Степанчиково и его обитатели". В 1860 г.
после бесконечных хлопот Ф. М. Достоевский получает разрешение вернуться в
Петербург. Уже не наивным юношей, а закаленным суровым опытом жизни, созревшим
в социальных симпатиях и классовой ненависти человеком, приезжает он снова в
Петербург разрешать задачу своей юности, бороться с бедностью и унижением и
сказать новое слово, новую правду - правду бедных людей, правду "униженных
и оскорбленных". Свой журнал кажется ему вернейшим средством для
осуществления намеченных целей. С лихорадочной энергией берется Ф. М.
Достоевский за хлопоты по созданию новой редакции, и с января 1861 г. выходит
журнал "Время". За два с половиной года своего существования это
издание завоевывает широкие симпатии в обществе, чему много способствует сам Ф.
М. Достоевский своими статьями и романами. Здесь были напечатаны
"Униженные и оскорбленные" и "Записки из мертвого дома" -
произведения, вновь выдвинувшие Ф. М. Достоевского в ряд первоклассных
писателей. Успех журнала избавил Ф. М. Достоевского и от все время тяготевшей
над ним нужды. Он обеспечен теперь настолько, что может позволить себе
отдохнуть. В 1862 г. Ф. М. Достоевский совершает первую поездку за границу.
Впечатления от этой поездки он выразил в полубеллетристическом произведении "Зимние
заметки о летних впечатлениях". Начавшийся довольно благоприятно 1863 год
оборвался неожиданной катастрофой, в мае по распоряжению правительства журнал
был закрыт; хлопоты об его возобновлении затянулись на 10 месяцев. Только в
марте 1864 г. Ф. М. Достоевский сумел выпустить первый номер "Эпохи",
явившейся продолжением "Времени". За это время он окончательно
запутался в долгах. К тому же "Эпоха" не имела успеха. Материальное
положение Ф. М. Достоевского так запуталось, что в 1865 г. он буквально бежит
от кредиторов за границу, угнетенный разорением и недавней смертью жены.
Единственной надеждой на выход из затруднений остается литературная работа, и
Ф. М. Достоевский весь уходит в нее. Он с напряжением и страстью пишет и к 1866
г. заканчивает роман "Преступление и наказание". В том же году
выходит первое полное собрание его сочинений в трех томах. Вырученные за это
деньги дают возможность кое-как сводить концы с концами, чтобы не попасть в
долговую тюрьму. В 1867 г. Ф. М. Достоевский вторично женится и тотчас же
уезжает за границу, на этот раз надолго - на целых 4 года. Но беспорядочная
кочевая жизнь, тоска по родине, куда не пускают кредиторы, хроническое
безденежье действуют на него самым угнетающим образом. Не изменяет положение к
лучшему и исключительная литературная плодовитость Ф. М. Достоевского. За эти
годы созданы такие произведения, как "Идиот", "Вечный муж"
и "Бесы". Не видя никакого выхода из затруднительных обстоятельств и
уставши донельзя от кочевья в чужих краях, Ф. М. Достоевский в 1871 г. вернулся
в Петербург. Чрезвычайно трудная обстановка ждала его здесь. Со всех сторон
обступили кредиторы, не давая ни отдыха, ни срока. Но теперь Ф. М. Достоевский
приехал в Петербург уже с прочно завоеванным местом знаменитого писателя,
которого привлекают к участию в литературных предприятиях. В 1873 г. В. П.
Мещерский предложил Ф. М. Достоевскому занять место редактора газеты
"Гражданин" на чрезвычайно выгодных условиях. Популярность Ф. М.
Достоевского в эту пору так высока, что самые противоположные по своему
направлению органы печати ищут его сотрудничества. В 1874 г.
"Отечественные записки" покупают у него роман "Подросток".
С 1876 г. Ф. М. Достоевский снова начинает выпускать свое периодическое
издание, единолично обслуживаемый им "Дневник писателя", дающий
крупный доход. К концу 70-х гг. материальное положение Ф. М. Достоевского
становится довольно устойчивым, а среди писателей он завоевывает первое место.
"Дневник писателя" пользовался огромной популярностью и раскупался
нарасхват. Ф. М Достоевский становился чем-то вроде пророка, апостола и
наставника жизни. Со всех концов России его засыпают письмами, ожидая от него
откровения и поучения. После появления в 1880 году "Братьев
Карамазовых" и особенно после "Пушкинской речи" слава писателя
достигла высшего предела. Но "Пушкинская речь" была лебединой песнью
Ф. М. Достоевского - в январе 1881 г. он умер.
1.1.1
Роман "Бедные люди", Петербургская поэма "Двойник" и
повесть "Хозяйка" в понимании критиков
Ф. М. Достоевский вошел в русскую литературу как
писатель так называемой "натуральной", гоголевской школы. Она
ознаменовала собой новый этап развития русской культуры, появление новой
системы координат в мировоззрении эпохи. Если отмести в сторону некоторую
упрощенность и безапелляционность суждений, можно принять общую схему этой
ситуации в толковании В. И. Кулешова: "С середины 30-х годов началось
реалистическое направление. До этого гении выступали одиноко: А. С. Пушкин, Н.
В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, каждый из них начинал с романтизма. В середине 30-х
годов совпала деятельность трех гениев-реалистов. Это было зачатком
направления. В то же время появился В. Г. Белинский - критик и теоретик
реализма. Начали соединяться, так сказать, практика и теория реализма - один из
важнейших признаков всякого направления" [2, 22].
Натуральная школа рассматривается здесь с подачи
критиков-демократов XIX века как нечто
политизированное, ее художественные открытия обретают истинную значимость как
противовес юношеским заблуждениям гениев - романтизму, например, а собственное
содержание рассматривается внутри зависимости от отношения писателей школы к
крепостничеству и самодержавию.
Так ведь и писал о "Бедных людях" В. Г.
Белинский: "Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на
чердаках и в подвалах!.." [3, 105].
В. Г. Белинский видел главную заслугу натуральной
школы: она сумела если не побороть, то пошатнуть в сознании читателей вечные
российские пристрастия к романтически понимаемой загранице, кипящим там
страстям, пышным и надуманным по большей части сюжетам. Наружу вышла мелкая
правда жизни и заполонила собой журналы. Петербургские углы и их жалкие
обитатели, петербургские дворы и петербургские извозчики, шарманщики, уличные
торговцы, падшие женщины - целый мир открылся перед изумленным, хотя и
несколько брезгливым взглядом читателей. Открылась новая реальность, которую,
собственно, уже знали - в основном по переводам из Бальзака, Мериме, Гюго, Жорж
Санд, Диккенса, регулярно появлявшимся в журналах для чтения в первой половине XIX века. Перевод смягчал,
вуалировал, опять же романтизировал бедность; в нищете и темной жизни
"дна" открывались те же страсти, борьба великодуший, благородство и
предательство, красота и невинность, что и в любовных романтических романах, а
проблемы нищеты, вроде лохмотьев или черствого куска хлеба, обращались в особый
и тоже романтический антураж. Поэтому произведения натуральной школы лоб в лоб
столкнули читателя с неприкрытым убожеством, бедностью как она есть, ее
жалкостью, ее надрывами, и в этом их великая заслуга.
В Ф.М. Достоевском, естественно, увидели ту же самую
душераздирающую реальность: судя по заметкам в литературных рубриках разных
печатных изданий, критики, они же первые читатели "Бедных людей",
увидели в романе начинающего автора прежде всего именно "натуральную"
зарисовку нищеты. "В страшной, сжимающей сердце картине представил он
несчастья, претерпеваемые бедным классом нашего общества..." - пишет автор
рецензии [4, 20], и ему даже не приходит в голову,
что речь идет все же о художественном произведении, а не о физиологическом
очерке, и что главное здесь - напряжение внутренней жизни героев, а не те
внешние несчастья, которые выпадают на их долю. Собственно, другой рецензент
так и разъясняет наивному рядовому читателю: "...Это... не художественное
создание, не глубоко задуманный роман, а отчетливая копия с натуры, с
поразительной верностью дагерротипная картина бедности" [5, 21].
Ф. М. Достоевский опирается здесь на тезис В. Г.
Белинского, говорившего об образности мышления художника; но насколько
удержался в этом тезисе сам В. Г. Белинский? В отзыве на "Петербургский
сборник", где появились впервые "Бедные люди", он говорит о
специфическом характере знания художника: "Он не поражает тем знанием
жизни и сердца человеческого, которое дается опытом и наблюдением: нет, он
знает его, и притом глубоко знает, но a priori,
следовательно, чисто поэтически, творчески. Его знание есть талант,
вдохновение" [3, 105].
Однако, оценивая "Двойника", великий критик
уже начинает, как бы искать оправдания для молодого литератора: "...Только
нравственно слепые и глухие могут не видеть и не слышать в "Двойнике"
глубоко патетического, глубоко трагического колорита и тона; но... этот колорит
и тон в "Двойнике" спрятались, так сказать, за юмор, замаскировались
им, как в "Записках сумасшедшего" Гоголя..." [там же]. В. Г. Белинский как бы
отсылает недоумевающего читателя, не приученного еще к жанру
"петербургских повестей", к авторитету великого Н. В. Гоголя,
родоначальника русского реализма с его обличительным пафосом, за которым и сам
не рассмотрел той серьезной мистической глубины, в которую вступил и пытался
ввести своего читателя Н. В. Гоголь.
Молодой Ф. М. Достоевский, методом проб и ошибок нащупывающий свой
будущий путь, гораздо глубже и одухотворенней воспринял урок Н. В. Гоголя, и не
только его, но и стоящего за ним Гофмана, в глади реальности прозревая и пытаясь
воплотить в гротескных образах скрытую подоплеку событий. В. Г. Белинский же,
высоко оценив талант начинающего писателя, все же воспринял
"Двойника" как бы в контексте "Бедных людей": "Нельзя
не согласиться, что для первого дебюта "Бедные люди" и, непосредственно
за ними, "Двойник" - произведения необыкновенного масштаба, и что так
еще никто не начинал из русских писателей..." [7, 22].
Похвалив, критик отмечает и естественные издержки буйства таланта,
торопливость, с которой начинающий автор бросается реализовывать свои замыслы,
недостаток художественного опыта: "В "Двойнике" автор обнаружил
огромную силу творчества, характер героя принадлежит к числу самых глубоких,
смелых и истинных концепций, какими только может похвалиться русская литература,
ума и истины в этом произведении бездна, художественного мастерства - тоже; но
вместе с этим тут видно страшное неумение распоряжаться экономно избытком
собственных сил. Все, что в "Бедных людях" было извинительными для
первого опыта недостатками, в "Двойнике" явилось чудовищными
недостатками..." [там же]. Так выплеснулось раздражение В. Г.
Белинского, не понявшего, что он столкнулся с явлением, не похожим на все
существовавшее прежде; но и рядовая критика остается в недоумении: "Что
касается повести Достоевского "Двойник"... то желали бы мы не
встречать более подобных злоупотреблений таланта и трудов. Нельзя видеть без
удивления, как в этой повести разговор действующих лиц зашел за все границы
приличия и обратился в какую-то смесь ругательств, нетерпимых для круга образованных
читателей..." - пишет в гневе рецензент "Журнала Министерства
народного образования" в 1846 году.
В этом отзыве отразилось негодование "образованного" читателя,
воспитанного на уже уходящих в прошлое высоких традициях литературы XVIII века; для таких читателей и А. С.
Пушкин слишком развязен и обыкновенен. Они видят в "Бедных людях"
скуку и однообразие - "...Роман не имеет никакой формы, и весь основан на
подробностях утомительно однообразных, наводит такую скуку, какую нам еще
испытывать не удавалось..." [8, 20]. Ему вторит другой рецензент: "Только немногие
прилежные читатели, да и те по обязанности, дочитали до конца господина
Голядкина и Прохарчина..." [9, 21].
Напряженная творческая работа молодого писателя остается и для его
критиков, и для его читателей как бы за кадром. Они не знают, не видят, как Ф.
М. Достоевский создает множество своих самых разнообразных рассказов, повестей,
романов: сентиментальные истории сменяют фантастику и гротеск, а за ними идут
почти фольклорные и полудетективные сюжеты... Ему некогда писать в одном ключе,
снова и снова обличать несправедливость строя, описывать "несчастья
низшего слоя нашего общества", в это время он весь в поиске, он весь в
эксперименте.
Результат же его неожидан, но вряд ли столь уж поразителен для
начинающего автора: В. Г. Белинский ерничает, говоря о "Хозяйке",
гофманской повести, вращенной в русский колорит, в котором никогда больше не
будет писать Ф. М. Достоевский: "...Даже смысл этой, должно быть, очень
интересной повести остается и останется тайной для нашего разумения, пока автор
не издаст необходимых пояснений и толкований на эту дивную загадку его
причудливой фантазии... Автор хотел попытаться примирить Марлинского с
Гофманом, подболтавши сюда немного юмору и сильно натеревши все это лаком
русской народности. Удивительно ли, что вышло что-то чудовищное... Странная
вещь! непонятная вещь!.." [10, 22]. Отзыв достаточно оскорбительный - В. Г. Белинский,
долго хваливший Ф. М. Достоевского, понял, что писатель не следует его советам
и рекомендациям, а отчаянно прорывается неизвестно куда, но своим собственным,
ни на что не похожим путем.
Однако сам писатель оказывается прав в своей спешке:
вскоре заканчивается первый период приобщения читателей к творчеству молодого
Ф. М. Достоевского. После долгих лет молчания, он вернется потом к читателю уже
сложившимся, зрелым писателем, выстрадавшим свое призвание. Значительную роль в
формировании этого творческого кредо призван будет сыграть именно этот мало кем
понятый начальный период накопления и выражения творческих сил - скучный для
одних, непонятный для других, восхищающий и много обещающий впереди для
третьих.
1.1.2
Романы "Униженные и оскорбленные", "Преступление и
наказание", "Идиот" в критическом восприятии
В 1850-е годы критика по вполне понятным причинам
молчит о Ф. М. Достоевском. Еще немного, и это имя совсем ушло бы в случайный
курьез минувших 40-х годов; Ф. М. Достоевский был на грани уничтожения. Однако
так не случилось, и 1860-е годы его увидели в силе и признали его если еще не
"учителем жизни", то, по крайней мере, фигурой, о которой можно и
нужно говорить.
Критика в 1860-е годы встречает Ф. М. Достоевского уже
зрелым писателем, которому испытания Мертвого дома принесли славу пострадавшего
за общее дело. Теперь это автор повестей и романов больших, солидных,
встретивших заинтересованное участие ждущего их читателя. В эти годы увидели
свет "Записки из Мертвого дома", "Униженные и
оскорбленные", "Село Степанчиково и его обитатели",
"Преступление и наказание"; начинает печататься "Идиот". Это
тот Ф. М. Достоевский, которого легко отнести к плеяде русских классиков, и
критика уже подготовлена к нему: известна его предыстория, отзывы В. Г.
Белинского и его, так сказать, благословение начинающему писателю. Как же
воспринимали Ф. М. Достоевского во второе десятилетие его творческой
деятельности?
Один из первых отзывов этого времени принадлежит Н. А. Добролюбову -
критик-шестидесятник сказал свое веское слово об "Униженных и
оскорбленных", выразив не только свое мнение о романе, но и сформулировав
отношение к нему многих других критиков и читателей своей эпохи, да и грядущих
тоже. Н. А. Добролюбов уже не может сказать вслед за В. Г. Белинским, что
"Униженные и оскорбленные" - это "странная вещь, непонятная
вещь". Он вынужден признать, что "...роман Достоевского до сих пор
представляет лучшее литературное явление нынешнего года" [11, 163].
Однако, отмечая множество "живых, хорошо отделанных
частностей", он все же во многом роман не принимает. Сложное построение,
две сюжетные линии, которые постоянно пересекаются на герое-рупоре Иване
Петровиче (том самом, о внутреннем развитии характера и чувств которого ни
слова не увидел в романе критик), - все это оказывается чуждо Н. А.
Добролюбову. Исходя из прагматизма 60-х, он в принципе не воспринял тот новый тип
романа, к которому уже подходит Ф. М. Достоевский, - романа-трагедии, в
котором, как в жизни, не все объяснено, не все сказано словами. Этого не видит
Н. А. Добролюбов, мечтающий о простоте решения вопросов: "...У самых
сильных талантов самый акт творчества так проникается всею глубиною жизненной
правды, что иногда из простой постановки фактов и отношений... решение их
вытекает само собой. У Достоевского недостало на это силы дарования, его
рассказам нужны дополнения и комментарии". Хотя, конечно, "некоторая
доля художественной силы постоянно сказывается в Достоевском... От него не
ускользнула правда жизни..." - заключение, вполне противоречащее
предыдущему [там же].
Думается, что Н. А. Добролюбов оказался под властью
представлений, которые выработали для себя мыслители-нигилисты, шестидесятники,
утверждавшие именно "правду жизни" и понимавшие ее зачастую столь
упрощенно и прямолинейно, что на самом деле постоянно оказывались недалеко от
физиологического очерка, к которому они так и норовили подтянуть все, с их
точки зрения, лучшее в русской литературе.
В отзывах на роман Ф. М. Достоевского -
"Преступление и наказание" отчетливо видны эти, уже столь характерно
намеченные в рецензии Н. А. Добролюбова тенденции. Вот автор рецензии пытается
определить главный момент романа: "Главною видимою целью автор поставил
психологический анализ преступления, причин, к нему ведущих, и его
последствий... Сюжет далеко не нов, но кажется совершенно новым благодаря
поразительной правде и отчетливости, с которыми автор, имевший случай близко
наблюдать преступников, анализирует припадок полусумасшествия, под влиянием
которого..." и т. д. [12, 24].
Этот "припадок" будет не давать покоя многим критикам:
"Раскольников - больной человек; это нервная, повихнувшаяся
натура..." [13, 25];
"У него герой вышел просто-напросто сумасшедший человек или, скорее,
белогорячечный, который хоть и поступает как будто сознательно, но в сущности
действует в бреду..." [14, 25]. Даже такой видный среди шестидесятников критик, как Д. И. Писарев,
останавливается на этом: "Человек помешанный не может отвечать за свои
поступки. С него невозможно взыскивать за то зло, которое он делает себе и
другим... В вопросе о том, помешан ли Раскольников, скрывается, в сущности,
другой вопрос: насколько Раскольников свободен отвечать за свои поступки в то
время, когда он совершал свое преступление?.." [15, 111].
Вот что пишут о нем в середине 1860-х годов:
"Федор Михайлович Достоевский принадлежит к числу лучших наших писателей,
и если его талант не так велик, чтобы он мог стать наряду с Гоголем, то мы
можем гордиться им как автором "Бедных людей", "Неточки
Незвановой" и в особенности "Записок из Мертвого дома"" [16, 29].
Это расцвет той самой позитивистской науки, против
которой так отчаянно выступал и в своих романах, и в публицистике Ф. М.
Достоевский. Критика его произведений этих лет написана словно бы теми самыми
пресловутыми Бернарами, против которых так бурно выступают его герои, чье имя
звучит почти ругательством в устах Мити Карамазова. Она в основном вращается в
верхнем слое этих романов - почти каждая газетная рецензия основывается на
долгом и удивительно бескрылом пересказе сюжетной линии произведения, часто
сопровождающемся комментариями, изо всех сил старающимися не быть
пристрастными.
Авторы этих отзывов, призванных формировать мнение
читательской массы, просто не видят, по краю какой пропасти они идут,
самодовольно рассуждая о странностях построения композиции, психологическом
развитии, обоснованных или необоснованных с их точки зрения характеристиках
персонажей типичности. В них совсем нет понимания философской глубины этих
романов и публицистики, составившей впоследствии основу философии XX века, а поэтика романов, вызывающая
у них столько нареканий и столь неохотно извиняемая ими из-за слухов о
зависимости автора от издателей и журналов, окажется предтечей сложной,
нервной, стремительной поэтики будущего. В этом они сродни прижизненной или же
ранней посмертной иллюстрации к произведениям Ф. М. Достоевского,
протоколирующей то или иное событие его романов и совершенно упускающей из виду
всю его, столь необычную для своего времени, поэтику как таковую.
Не подозревая обо всем этом, рецензенты рассуждают
свысока об умении и неумении Ф. М. Достоевского, о том, на что у него достало,
а на что недостало таланта, и даже снисходительно разъясняют ему, у кого ему
следует поучиться: "...Мы советуем Достоевскому бросить ложный стыд и
поставить точку над "i";
в этом отношении ему хорошим образцом может служить г. Клюшников, весьма
эффектно изобразивший в лице гимназиста Коли (в романе "Марево") всю
пагубную нынешнюю систему воспитания..." [12, 24].
По этому поводу сильно переживала за своего мужа Анна
Достоевская: "К тому же, будучи отягощен долгами, Федор Михайлович должен
был сам предлагать свой труд в журналы и, конечно, получал за свои произведения
значительно менее, чем получали писатели обеспеченные, вроде Тургенева или
Гончарова. В то время как Федору Михайловичу платили за "Преступление и
наказание" по полутораста рублей с печатного листа, Тургенев в том же
"Русском вестнике" за свои романы получал по пятисот рублей за лист.
Всего же обиднее было то, что, благодаря нескончаемым
долгам, Федор Михайлович должен был спешить с работою. Он не имел ни времени,
ни возможности отделывать свои произведения, и это было для него большим горем.
Критики часто упрекали Федора Михайловича за неудачную форму его романов, за
то, что в одном романе соединяется их несколько, что события нагромождены друг
на друга и многое остается незаконченным. Суровые критики не знали, вероятно,
при каких условиях приходилось писать Федору Михайловичу. Случалось, что первые
три главы романа были уже напечатаны, четвертая - набиралась, пятая была только
что выслана по почте, шестая - писалась, а остальные не были даже обдуманы.
Сколько раз я видела впоследствии искреннее отчаяние Федора Михайловича, когда
он вдруг сознавал, что "испортил идею, которою так дорожил", и что
поправить ошибку нет возможности" [17, 120].
Критиками было блистательно продемонстрировано
прискорбное, пагубное впоследствии нежелание и неумение понять самую сущность
протекающих вокруг них общественных процессов, которые (если на них вообще
обращали внимание) казались им чем-то преходящим, "злобой дня", а
через каких-то полвека смели в конце концов весь их уютный, понятный, неуклонно
направленный к грядущему прогрессу (и политическому, и научно-техническому, и
культурному, конечно). Прозрение будет ужасное, - но понять, что корни его
увидел и им ужаснулся еще Ф. М. Достоевский, смогут не многие. А те, кто понял,
будут гнать и проклинать его еще больше полувека, прежде чем спохватятся и
договорятся, наконец, считать Ф. М. Достоевского нашим великим писателем
(конечно, не без ошибок, но...).
Пока же рецензент гневно осуждает Ф. М. Достоевского
за его недоверчивое отношение к молодежи: "Достоевский в настоящее время
не доволен молодым поколением… Он не говорит прямо, что либеральные идеи ведут
молодых людей к преступлению, а молодых девиц к проституции, а так, косвенно
дает почувствовать… В новом романе его вор и убийца - студент (опять студент!
что за страшное стечение обстоятельств!)…" [12, 24].
Да и вообще его длинные романы на некоторых критиков
наводят смертельную скуку. Уверенный в себе очередной "Бернар"
издевательски рецензирует "Преступление и наказание": "…Начало
этого романа наделало много шуму, в особенности в провинции, где все подобного
рода вещи принимаются, от скуки, как-то ближе к сердцу… Как бы там ни было, а
роман… окончен, так что теперь самая пора сказать о нем что-нибудь, как о
покойнике…" [14, 25].
Оказывается, только если попробовать на Раскольникова как на попытку автора
создать некий "тип", еще можно как-то воспринять это произведение в
качестве романа, однако попытка автора, по мнению рецензента, явно не удалась:
"У Раскольникова - все признаки белой горячки; ему только все кажется;
действует он совершенно случайно, в бреду. Не уходи дворник из дому и не
попадись Раскольникову на глаза топор, - он, быть может, просто бы побежал
вдоль по каналу и бултыхнулся бы с какого-нибудь моста в воду, как это нередко
делают белогорячечные. Топор дворника является во всей этой истории более
самостоятельным лицом, чем сам Раскольников" [там же]. В
негодовании на уже наскучившего ему автора рецензент готов и сам вступить на
путь создания новой образности...
А главная мысль этой замечательной во многих
отношениях рецензии в том, что литература в принципе не нужна, потому что
"несравненно поучительнее читать подлинные процессы, нежели испорченные из
них извлечения, подобранные сообразно с извращенными вкусами авторов"
[там же].
Другой критик говорит, что в романе целая студенческая
корпорация обвиняется в том, что она исповедует как принцип невиновность
убийства с грабежом, даже в том, что в ней существует уже самое покушение на
такое убийство: "Уничтожьте только тот оригинальный мотив убийства, в силу
которого Раскольников видит в убийстве не гнусное преступление, а
"поправление" и "направление" природы, некоторым образом
подвиг; мало того: сделайте такой взгляд на убийство только личным,
индивидуальным убеждением одного Раскольникова, а не общим убеждением целой
студентской корпорации, всякий интерес в романе Достоевского немедленно
пропадет. Это ясно показывает, что основу романа Достоевского составляет,
предположенное им или принятое за данный факт - существующее в студентской
корпорации покушение на убийство с грабежом, существующее в качестве
принципа" [18, 37, 39]. Затем критик довольно хладнокровно
предается некоторой горячности: "Какою, - говорит он, - разумною целью
может быть оправдано изображение молодого юноши, студента, в качестве убийцы,
мотивирование этого убийства научными убеждениями и, наконец, распространение
этих убеждений на целую студенческую корпорацию" [там же].
На этот отзыв Н. Н. Страхов говорит следующее:
"Первая мысль, которая может прийти здесь в голову разумному читателю,
конечно, будет та, что все это нелепость, на которую не стоит обращать никакого
внимания. Разве можно обвинять всех студентов поголовно не только в покушении
на убийство, а в чем бы то ни было? Нужно вовсе лишиться здравого смысла, для
того чтобы сделать такое нелепое обвинение. И далее - если бы кто и сделал
подобное обвинение, то разве оно могло бы иметь хотя малейшее значение? Разве
обратил бы на него внимание хоть единый студент? О подобной глупости не стоило
бы вовсе и говорить.
К сожалению, дело так просто не развязывается. Критик,
вероятно, высказал свою искреннюю мысль. Если же он говорил неискренно, то
говорил для тех, которые могут искренно питать подобные мысли. Только нет
сомнения, что найдется множество людей, которые или поверят критику, или сами
доберутся до подобного взгляда на дело. Нет такой нелепости, которая не нашла
бы себе защитников вопреки всякой очевидности. Можно бы привести немало
примеров нелепейших обвинений, которые основывались на недоразумениях или даже
на прямой клевете и, однако, имели большой ход среди читающей публики"
[19, 372]. А потом в конце своей статьи пишет: "Но эти люди (подобно
Раскольникову) действуют, считая своей целью благо человечества, и они имеют
дело с историею народов. Поэтому, с одной стороны, их усилия получают характер
бескорыстия, самоотвержения, с другой стороны, их деятельность никогда не
бывает удачною. История их не слушается и идет своим порядком. Глупые народы не
понимают того блага, которое им предлагают умные люди" [19, 391].
За чистую монету принимает критика внешний сюжетный слой следующего
романа Ф. М. Достоевского - "Идиот", героем которого оказывается
"какой-то князь Мышкин - больной, слабый, тщедушный, простой, незлобливый,
бестактный, но понятливый, даровитый, наблюдательный, способный на тонкий
анализ как собственного, так и чужих характеров..." [20, 26]. Но такое определение князя
Льва Николаевича, "совершенно прекрасного человека" со всем его
творческим генезисом мог дать, скажем, генерал Епанчин...
И все же наиболее проницательные из
критиков-современников хоть и отказывали Ф. М. Достоевскому в праве встать в
русской литературе рядом с Н. В. Гоголем, но признавали неоспоримость и
своеобразие его таланта: "Предоставив им (т. е. "дарованиям других
наших писателей") внешний мир человеческой жизни: обстановку, в которой
действуют их герои, случайные внешние обстоятельства и т. п., Достоевский
углубился во внутренний мир человека... своим глубоко основательным, но
беспощадным анализом выставляет перед читателем всю его внутреннюю духовную
сторону - его мозг и сердце, ум и чувства. Этот анализ и отличает его от всех
других писателей и ставит на почетное и видное место в русской литературе"
[16, 29]. Подобные утверждения начинаются
именно в позитивистские 60-е годы; из них в будущем вырастет мощная ветвь иной
критики и иного понимания творчества Ф. М. Достоевского.
1.1.3
Критика 70-х годов XIX века
1870-е годы оказались более подготовленными к
восприятию Ф. М. Достоевского, его сумбурной поэтики и его языка, столь часто
приближающегося к газетному, к низменной правде жизни. Громада Ф. М.
Достоевского растет почти на глазах, становится высочайшей вершиной нашей
культуры, однако современники находятся все еще в тени ее, все еще не могут,
задрав голову ввысь, увидеть пик ее...
Далеко не все могли увидеть в Ф. М. Достоевском хотя
бы приблизительно то, что он пытался сказать людям. Даже такой умнейший
писатель и критик, как М. Е. Салтыков-Щедрин, оказался не в силах воспринять
искания и находки Ф. М. Достоевского в целом.
В своей статье он вполне справедливо пишет, например,
о попытке (речь идет о романе "Идиот") "изобразить тип человека,
достигшего полного нравственного и духовного равновесия", и характеризует
ее как задачу, "перед которою бледнеют всевозможные вопросы о женском
труде, о распределении ценностей, о свободе мысли и т. п." [21, 234]. Но тут же досадует на то, что Ф. М.
Достоевский "сам подрывает свое дело, выставляя в позорном виде людей,
которых усилия всецело обращены в ту самую сторону, в которую, по-видимому,
устремляется и заветнейшая мысль автора" [там же]. "Дешевое
глумление над так называемым нигилизмом" для М. Е. Салтыкова-Щедрина
совсем не связывается с проблемой гибели этого самого нравственно и духовно
совершенного человека, героя романа "Идиот", а ведь нарастающая дисгармония
в жизни общества, разлад в столь уютной и целостной для кого-то картине мира и
становится, по Ф. М. Достоевскому, причиной гибели князя Мышкина.
И вот тут-то и явился роман, ставший для читателей Ф.
М. Достоевского главным событием 1870-х годов, - роман "Бесы",
поистине камень преткновения для многих и многих "прогрессивно
мыслящих" поколений русского общества. Ему посвящена львиная доля всех
отзывов и газетных рецензий, он стал центром споров, обличений и проклятий на
многие годы.
Прежде всего, конечно, критики (а за ними, думается, и
рядовые читатели) наткнулись на форму романа: "...В нем (романе) есть
два-три лица, очерченных с необыкновенным искусством, попадаются страницы,
исполненные высокой жизненной правды и глубоким проникновением в сущность
мотивов человеческих действий, но вместе с тем "Бесы" преизобилуют
множеством бесцветных выдуманных фигур, отличаются темною и запутанною
завязкой, растянутыми, вялыми и бледными сценами, которые совершенно излишни,
порою странны..." [22, 27].
Кажется, именно этот разрыв между сильными, на взгляд
критиков и читателей, страницами и множеством слабых, неизвестно для чего
написанных, более всего и ставит критику в тупик. Об этом ведь пишет и М. Е.
Салтыков-Щедрин: "...Нельзя не согласиться, что этот внутренний раскол
производит впечатление очень грустное... С одной стороны, у него (Ф. М.
Достоевского) являются лица, полные жизни и правды, с другой - какие-то
загадочные и словно во сне мечущиеся марионетки, сделанные руками, дрожащими от
гнева" [21, 234].
Но ни рядовой обозреватель литературной рубрики в
газете, ни великий сатирик, создававший собственные гротески и фантасмагории,
так и не смогли увидеть вслед за Ф. М. Достоевским нарождающуюся в реальной
жизни новую фантасмагорию, не смогли оторваться от восприятия современности как
мира, ставшего раз и навсегда, в целом уютного и гармоничного, невзирая на
вкрапления отдельных неправильностей. А Ф. М. Достоевский уже жил в мире
распадающемся и понимал, что чем дальше, тем острей станет протекать этот
процесс. Самая форма его романов, как бы ни тяготили сроки и отсутствие денег,
продиктована сознанием, что разрушается привычный уют (да и был ли этот уют
когда-нибудь, кроме как в романтическом воображении беззаботных дворянских
недорослей?..).
Даже критики демократического, то есть
"передового", толка увидели в "Бесах" изображение больных
людей и обвинили Ф. М. Достоевского в неправильном понимании проблемы: он не
понял, по их мнению, что именно невозможность воплотить в жизнь явившиеся
молодому поколению проблемы и стала причиной такого уродливого, такого
страшного их выражения, как нечаевщина. П. Н. Ткачев говорит о том, что герои
Ф. М. Достоевского слеплены из воска - не только они, но и все поколение, о
котором пишет автор [23, 115].
Силы, уходящие в песок, порывы в никуда - и на самом деле ни грамма истинного
понимания необходимости планомерного труда. Гораздо лучше все взорвать,
уничтожить, чтобы на развалинах начать новую, ослепительную жизнь... Об этом
потом напишет Н. Бердяев в своих "Истоках и смысле русской
революции"; как это по-русски, и как горько, как тяжело будет тащить на
себе последствия этого неуемного романтизма, этой слепой веры "восковых
человечков".
Упрекая Ф. М. Достоевского в отсутствии объективности
и неспособности видеть в жизни что-то вне его собственного внутреннего мира, П.
Н. Ткачев повторяет ошибку многих критиков: ведь легче всего сделать такой
вывод - и он, и ошибки, его якобы породившие, вполне укладываются в пределы
мировоззрения ясного, размеренного мира XIX века с его уютной, не знающей еще глобальных взрывов
вселенной. Правда, и этот мир не без теней - например, романы Бальзака и
Диккенса насквозь пронизываются скрытыми преступлениями и зловещими тайнами, и
все же насколько же это иной уровень восприятия реальности! Большинство критиков,
да и просто читателей, не просто желали вечно жить в мире, где существуют
"викторианских тайн уютные угрозы", - они и жили в нем, не
представляя себе иного; это был все тот же "милый девятнадцатый век",
который им казался "железным". Катастрофа еще не стала образом жизни,
и только в творчестве Ф. М. Достоевского она уже заняла подобающее ей
доминирующее место - отсюда и его торопливый, запутанный стиль, сложный,
тяготеющий к газетному язык, дисгармоничная, как сама жизнь, композиция
романов.
"Концепция "Бесов" смутная,
путаная..." [24, 29];
"...масса ненужного, неразработанного материала..." [25, 170] - это о "Бесах";
"рассказ ведется оригинально-безграмотным слогом, навязанным Достоевским
рассказчику как недоучившемуся гимназисту, но и слог этот, увы, не совсем
характеристичен и даже слишком напоминает язык газетных статей" [26, 31] - это уже о "Подростке"...
Ф. М. Достоевский не укладывается в концепцию литературы, которую так хорошо
знали и о которой с таким апломбом судили и критики, и рядовые читатели 70-х
годов, о которой столь легко было рассуждать как о чем-то вполне ясном и
измеренном. Отсюда - почти во всех рецензиях - пересказ сюжета, рассуждения о
том, как трудно этот сюжет пересказывать, отсюда и рассуждения их о конкретной
стороне его произведений.
"Бесы", конечно, его неудача, это памфлет на
русское революционное движение, пасквиль, клевета... Критикам вообще крайне
странным кажется, что такой именитый писатель тратит время на нападки на нашу
замечательную молодежь, на безобидных студентов, гимназисток, против которых
он, как им кажется, и обращает свою убийственную сатиру... Нападки на
недоростков - вот что, оказывается, представляет собой роман "Бесы" -
вещь, которую в многострадальном XX
веке назовут вещью апокалиптической, когда такие же "недоростки"
будут кроваво вершить судьбы миллионов.
Роман кажется читателям наполненным мистикой, массой
ненужного, "неразработанного материала", бесцветными и выдуманными
фигурами... Но почему же тогда автор статьи в "Биржевых ведомостях",
долго рассуждающий о том, что Ф. М. Достоевский преступает порог искусства, что
его герои как бы на сцене перед зрителями убивают друг друга настоящими пулями,
и это, конечно, уже не искусство, - почему же он вдруг кончает заметку свою
такими словами: "Но все эти соображения я советую тебе, читатель, оставить
ныне в стороне, потому что саваны, саваны, саваны начинают ложиться на все в
жизни; все в ней принимает действительно тот самый меланхолический колорит,
который преобладает в романа Достоевского" [27, 32]. Значит, все же бродит нечто в
самосознании эпохи, значит, не столь уж и безобидны увлечения и жажда действия
молодежи?..
1.1.4
Критическая сторона последнего романа Ф. М. Достоевского "Братья
Карамазовы"
С писателем спорят о произведении, как "Братья
Карамазовы", на рубеже 1870-1980-х годов появляются весьма противоречивые
отзывы.
Что-то как будто начинает проявляться в сознании
мыслящих читателей, и однако, они всё еще пытаются пересказать фабулу романов
Ф. М. Достоевского - и, естественно, единодушно сходятся на том, что это
невозможно. "Прежде всего, разумеется, было бы необходимо рассказать сюжет
романа, т. е. фабулу, ту внешнюю цепь событий, которые образуют столкновения и
коллизии действующих лиц, приводят к внешней драме, независимо от внутренней и душевной.
К сожалению, фабулы романа нет возможности рассказать..." [28, 34] - пишет автор одной из первых
рецензий на "Братьев Карамазовых", даже не допуская попросту мысли о
том, что для такого писателя, как Ф. М. Достоевский, фабула - чисто внешняя и
не слишком существенная сторона дела.
Невероятная разреженность и драматический накал
страстей в произведениях Ф. М. Достоевского по-прежнему воспринимаются как
своего рода экстравагантность писателя, якобы черпающего эти уродливые
"характеры" (или еще лучше - "типы") из собственной темной
и больной души. Так, еще в предпоследнем романе, "Подросток", где
впервые возникает надежда на возрождение человека, связанная, кстати сказать,
именно с молодежью, рецензент увидел лишь "какие-то малопонятные семейные
интриги, не совсем ясные отношения, неизвестно к чему ведущие, тогда как не
выявляется еще никакого характера, возле которого сосредотачивалось бы
действие..." [29, 33].
И все же Ф. М. Достоевского можно было не услышать или
не понять, но пройти мимо него уже было нельзя: таинственным образом он,
невзирая на все отрицательные отзывы, уже занял подобающее ему место в русской
литературе. Ф. М. Достоевского читают, изобличают, им восхищаются за какие-то
всем понятные мотивы, на него негодуют или просто пожимают в недоумении плечами
из-за мотивов, понятных не совсем или вовсе непонятных читателю, воспитанному в
духе классической русской прозы XIX
века.
"Настоящая семья уродов", которых описывает писатель в своем
последнем романе, - это один отзыв [28, 34] - рядом другой, судя по которому этот роман "сияет, как
солнце, не только посреди всего помещенного в "Русском вестнике", но
даже и среди всей современной беллетристики, русской и иностранной..." И
далее излагается только что открытая автором рецензии истина, срываясь, правда,
тут же на язык привычных идей: "В романе Достоевского дело не в интриге, а
в психологическом анализе, в типах, в тех бесконечно разнообразных картинах
жизни, которые он рисует. ...Да что там говорить!.. Достоевского надобно
читать, раз, второй, третий, и каждый раз найдешь новые красоты. "Братья
Карамазовы" - это целый мир русских типов" [30, 33].
Снова "типы", снова попытка пристегнуть фарс
и трагедию, трагическую иронию и философские прозрения, великолепную игру со
словом и смыслом к воспроизведению типического в типических обстоятельствах, к
дословному (вариант доброго старого физиологического очерка) пересказу всем и
так хорошо известной русской жизни, снова попытка говорить о новом и
непривычном в категориях старого и наизусть знакомого. И снова речь,
оказывается, идет не о взлетах и катастрофических падениях человеческого духа и
игре его возможностей, но о "красотах", т. е. о холодном и
рассудочном любовании художественными приемами, при помощи которых писатель
создает свое произведение (а не творит целый мир).
Даже сочувствующие, восхищающиеся Ф. М. Достоевским
критики упорно пытаются привязать его к некоему здравому смыслу, к разумной
реальности. Так, "Донские епархиальные ведомости" пишут в 1880 году:
"...Мы не можем не признать, что Достоевскому удалось подметить и
мастерски, даже художественно изобразить многие черты живой действительности,
глубоко захватить явления современного быта, талантливо коснуться
господствующих понятий, верований и интересующих общество вопросов, не говоря
уже о богатстве, точности и глубине его психологических состояний, - ведь
сердце человеческое для него как бы на ладони..."
В этом отзыве прелестен оборот "мастерски, даже
художественно изобразить..." Писателя заверили в его способностях - и тут
же, в меру своего понимания, отметили его умение передать, пересказать
"живую действительность", "явления современного быта". Ну
конечно, отмечен психологический талант Ф. М. Достоевского, его сердцеведение -
это перекликается с другим отзывом, говорящим о "грандиозной картине страстей
человеческих", разворачивающейся в его произведениях... По сути, признание
"сердцеведения" Ф. М. Достоевского, его психологического таланта -
это тоже средство удержания писателя в плоскости разумной реальности.
Но вот и другой полюс читательского восприятия и -
полного неприятия писателя: "...Его романы под конец до крайности утомляют
внимание и внушают скуку, которая очень похожа на положительное отвращение. Это
происходит от двух причин: в романах Достоевского, несмотря на кажущуюся
запутанность фабулы, на необычайные события, нет, в сущности, ни фабулы, ни
событий..." [31, 39].
Собственно, здесь высказана глубокая мысль: для Ф. М. Достоевского дело ведь не
в сюжете - даже современники начинают под конец его творческого и жизненного
пути это понимать. Но мысль эта высказана не от понимания, но от недоумения
перед совершенно новой поэтикой писателя, естественно ставшей выражением его
совершенно нового, качественно отличающегося от предшествующего, знания о мире.
Нет событий - это раздражает: в романе должно происходить нечто; нет фабулы,
одни страсти и психологические тонкости...
Все это, думается, издержки прижизненной критики.
"Лицом к лицу лица не разглядеть" - великая истина. Критику
приходится "отстреливаться" от нового произведения сразу, что называется,
влет - как там усмотришь, забудут ли его, закрыв журнал или книгу, или и через
сотню лет оно будет терзать и мучить людей?.. Отзывы о "Братьях
Карамазовых" и Пушкинской речи завершают череду этой сиюминутной критики.
1.1.5.
Отношения критиков к Ф. М. Достоевскому после его смерти
В начале 1881 года Ф. М. Достоевского не стало. Его
творчество из бурно развивающегося превратилось в творчество завершенное,
остановившееся для нас в своем материальном бытии. Соответственно, и слово о
нем претерпело существенные изменения. О нем стало возможным говорить не как о
чем-то обыденном, почти газетном, потому что сиюминутность исчезла и настала
вечность. Совсем иные люди пишут о Ф. М. Достоевском в следующее десятилетие, и
пишут они совсем иные вещи. О Ф. М. Достоевском теперь можно говорить с
мгновенно образовавшейся между ним и его читателями дистанции - грань между
жизнью и смертью человека образовала порог нового восприятия писателя.
В какой-то степени первая посмертная критика,
продолжая критику прижизненную, стала судом над ушедшим властителем дум.
Обстоятельно и серьезно к ней подошел, скажем, М. А. Антонович. Он отмечает с
явным, хотя из приличия и скрытым неодобрением, что на Ф. М. Достоевского не
оказала ни малейшего влияния критика 60-х годов, и добролюбовской школы в
частности: "Да по своему огромному самомнению он и не способен был принять
к сведению замечания критики и пользоваться ее указаниями" [32, 175]. Типичный, кстати, самоуверенный
взгляд свысока критика на писателя, который вечно что-то путает и ничего не
понимает в том, что пишет, пока мудрый критик или редактор не растолкуют ему,
что к чему. (Еще и Анна Ахматова будет в "Прозе о Поэме" высмеивать
это всеобъемлющее самомнение.)
Далее М. А. Антонович рассуждает о принадлежности Ф.
М. Достоевского к чистым художникам: он - "представитель искусства для
искусства", в произведениях его совсем нет тенденциозности, ярлык же
"забитые люди" был придуман Н. А. Добролюбовым и искусственно
привешен им на героев Ф. М. Достоевского, а на самом деле писателя занимали
самые сцены как таковые, но не суть переживаний, не комплекс проблем самого
разного толка, стоящих за ними. Ф. М. Достоевский, которого на самом деле
всегда остро волновали животрепещущие вопросы современности, оказывается в
своих ранних вещах как бы вне их.
Однако со временем, считает критик, тенденциозность у
него появляется, и М. А. Антонович особо останавливается на ней, как бы против
воли высказывая мысль неожиданно глубокую, предвещающую многие рассуждения
Серебряного века и более позднего литературоведения. М. А. Антонович пишет:
"Последнее произведение его есть верх тенденциозности; его как-то странно
и называть романом. Это трактат в лицах; действующие лица не разговаривают, а
произносят рассуждения, и притом большей частью на одну и ту же, очевидно,
излюбленную автором, тему теологического или, лучше сказать,
мистико-аскетического свойства... Для автора самое главное мысль, тенденция, а
роман второстепенная вещь, оболочка... Автор, вероятно, вовсе не прибег бы к
аллегории романа и изложил бы свою мысль только в трактате, если бы был уверен,
что трактат так же сильно подействует на читателей... и в том случае, если он
не будет... сдобрен разными романтическими снадобьями и художественным
перцем..." [там же].
Говоря, с его точки зрения, о недостатке Ф. М.
Достоевского, М. А. Антонович, критик приземленной и вполне укладывающейся в
"правильные" рамки добролюбовской школы, тем не менее, выдвигает идею
о второстепенности для Ф. М. Достоевского формы собственно романа - от этого
тезиса уже недалеко до понимания игры Ф. М. Достоевского с философскими
категориями.
В эти же первые годы без Ф. М. Достоевского была написана знаменитая
статья Н. К. Михайловского, заклеймившего его как писателя "жестокого
таланта". Единым неприятием писателя она пронизана вся, от начала до
конца: "...Принимая в соображение всю литературную карьеру Ф. М.
Достоевского, мы должны будем... прийти к заключению, что он просто любил
травить овцу волком, причем в первую половину деятельности его особенно
интересовала овца, а во вторую - волк... Однако тут не было какого-нибудь очень
крутого поворота... В нем просто постепенно произошло некоторое перемещение
интересов и особенностей таланта: то, что было прежде на втором плане,
выступило на первый, и наоборот..." [33, 120].
Целостное, взращенное на идеях прогресса во всех
сферах жизни мировоззрение человека XIX века категорически не принимало раздерганный и дисгармоничный мир Ф. М.
Достоевского. Собственно говоря, в русской литературе произошло то же, что и в
чисто зримом варианте случилось в конце 1880-х в Париже, где над миром
экипажей, цилиндров, турнюров и нижних юбок вознеслись в небо просвистанные
ветрами стальные конструкции Эйфелевой башни, зримый прорыв в XX век.
По-иному, резко полемизируя с ожесточением Н. К. Михайловского, но с тем
же трогательным прагматизмом своего времени оценил Ф. М. Достоевского философ
К. Леонтьев, писавший о "влиятельности" и "полезности" Ф.
М. Достоевского: "Его искренность, его порывистый пафос, полный доброты,
целомудрия и честности, его частые напоминания о христианстве - все это имеет в
высшей степени благотворное действие на читателя, особенно на молодых русских
читателей" [34, 177].
Ф. М. Достоевский, которого еще недавно жестоко
упрекали за туманность "мистических" настроений - что в прозе, что в
публицистике, - теперь вдруг признан человеком Церкви, он оказывается причастен
некоему будущему единению русских людей, новой соборности.
Недолгая эпоха философствующего русского богословия,
попытки вернуть русский народ к христианству и стремление понять идущие в
недрах общественной жизни скрытые процессы, чье подспудное течение так
болезненно воспринимал Ф. М. Достоевский, оказались созвучны его творчеству.
То, что полностью отвергалось критикой демократической и народнической, теперь
вдруг вышло на первый план, оказалось важным и еще совершенно неизученным.
Читатели 80-х годов открыли для себя принципиально нового Ф. М. Достоевского -
церковного мыслителя.
При этом его поиски Бога в восприятии религиозных
философов конца XIX века
неразрывно связываются с гуманизмом писателя, стремлением понять человека во
всех его взлетах и падениях. "Человечество XIX века как будто бы отчаялось совершенно в личной
проповеди, в морализации прямосердечной, и возложило все свои надежды на
переделку обществ, то есть на некоторую степень принудительного исправления, -
пишет К. Леонтьев, и продолжает мысль: - Достоевский, по-видимому, один из
немногих мыслителей, не утративших веру в самого человека" [там же].
Вл. Соловьев впервые весомо обозначил эту причастность Ф. М. Достоевского
христианским ценностям: "Мне кажется, что на Достоевского нельзя смотреть
как на обыкновенного романиста, как на талантливого и умного литератора. В нем
было нечто большее, и это большее составляет его отличительную особенность и
объясняет его действие на других" [35, 57]. Это большее - познание им Бога: "Действительность Бога
и Христа открылись ему во внутренней силе любви и всепрощения, и эту же
всепрощающую благодатную силу проповедовал он как основание и для внешнего
осуществления на земле того царства правды, которого он жаждал и к которому
стремился всю свою жизнь" [там же]. Пожалуй, отсюда далековато до
той критики, которую писали о Ф. М. Достоевском при его жизни!
Но, по мысли Вл. Соловьева, Ф. М. Достоевский говорит
не только о внутреннем самоусовершенствовании человека. "Истинная Церковь,
которую проповедует Достоевский, есть всечеловеческая, прежде всего в том
смысле, что в ней должно, в конце концов, исчезнуть разделение человечества на
соперничествующие и враждебные между собою племена и народы. Все они, не теряя
своего национального характера, а лишь освобождаясь от своего национального
эгоизма, могут и должны соединиться в одном общем деле всемирного возрождения.
Поэтому Достоевский, говоря о России, не мог иметь в виду национальное обособление..."
[там же]. Здесь Вл. Соловьев согласен с К. Леонтьевым, и идея о
"полезности" влиятельного писателя - наивный прагматизм XIX века - все еще незримо присутствует
здесь.
Но рядом с ним возникает мысль и о самоценности творчества как такового.
Молодой в те годы Ин. Анненский говорит, что "...прежде всего... значение
Достоевского заключается в том, что он был истинный поэт", а
следовательно, умел не только сострадать людям, но и писать об их страданиях.
"Поэт отзывчивее обыкновенных людей... он умеет передавать свои образы в
живой, доступной другим и более или менее прекрасной форме... Поэт вкладывает в
изображ<ение> свою душу, свои мысли, наблюд<ения>, симпатии,
заветы, убеждения... Каков же идеал Достоевского? Первая черта этого идеала и
высочайшая - не отчаиваться искать в самом забитом, опозоренном и даже
преступном человеке высоких и честных чувств... Другая черта идеала
Достоевского - это убеждение, что одна любовь к людям может возвысить человека
и дать ему настоящую цель в жизни..." [36, 180].
В его речи мелькает сравнение Ф. М. Достоевского и И.
А. Гончарова - век грядущий узнает, что никого, кроме великих философов, рядом
с Ф. М. Достоевским не поставишь. И все же Ин. Анненский тоже предвосхищает
грядущие открытия; да и вообще 80-е, как и 90-е, годы полны предчувствиями,
будущим познанием Ф. М. Достоевского, и в этом смысле определение его прежде
всего как поэта - далеко идущая мысль.
-е годы - во многом переломные в истории русской
культуры. В это время впервые пошатнулось почти незыблемое ранее представление
о литературе как "учительнице жизни", и ее наставнический, почти
диктаторский голос впервые узнал новые интонации.
Русская литература по преимуществу литература
дидактическая. В ней, как и во всем исконно русском искусстве и, шире, культуре,
основой является православное служение идее, превалирующей над земным,
низменным, человеческим. Если в католическом искусстве в силу свойственных
именно католицизму приспособлений учения Христа к человеческим, а иногда и
просто чиновничье-церковным нуждам и интересам преходящее человеческое
превалирует над вечным, то в русской культуре самая ее установка изначально
ориентируется на главенство высшего, вечного, непреходящего. Как в иконе идея
превалирует над искусством, как в ряд наиболее почитаемых на Руси церковных
праздников неизменно входит Пасха, Воскресение Бога (в отличие от католического
Рождества, рождения Бога-человека), так и в таких сферах, как искусство,
служение идее оказывалось выше насущных проблем.
Отсюда страстные поиски истины, "проклятые" вопросы "что
делать?" и "кто виноват?", отсюда вечное "служение"
народу, который сам, однако, весьма далек от всех новшеств и в лучшем случае
просто ходит по праздникам в церковь... Как пишет Н. Бердяев, "...и в
русском народе, и в русской интеллигенции будет искание царства, основанного на
правде". И далее: "...Русской душе свойственно переключение
религиозной энергии на нерелигиозные предметы, на относительную и частную сферу
науки или социальной жизни" [37, 11, 19].
Русская литература XIX
века была литературой служения. Для ее почитателей интересы и проблемы
"многострадальной России" и народа стали основным содержанием и
пафосом всех их исканий. Но свой смысл русская литература видела не в плоском
копировании действительности и ее насущных проблем. "Ей свойствен был
реализм, но совсем не реализм в школьном смысле слова, это реализм почти в
религиозном смысле, а на вершинах в чисто религиозном смысле. Это есть реализм
в смысле раскрытия правды и глубины жизни" [37, 64].
Однако со временем произошло постепенное вырождение
пафосного аскетизма этого служения в сухой и догматический утилитаризм. Русское
сознание, склонное к обольщениям идеями и максимализации переживания, оказалось
прикованным к народнической догматике и прагматизму требований народнического
искусства.
Утилитаризм и свойственные народникам материализм,
вера в научно-технический и общественный прогресс начали в последнее
десятилетие XIX века сдавать позиции. Теоретики
литературы в это время начинают возвращаться к истокам, задаваясь вопросом
"в чем же... цель поэзии? В каком-то смысле все еще в том, чтобы служить
народу, однако не через поиски правды-справедливости, а через поиски
истины" [38, 31]. На рубеже веков "пробудились
творческие инстинкты духовной культуры, которые долгое время были подавлены в
господствующих формах интеллигентского сознания. Мы пережили своеобразный
философский, художественный, мистический ренессанс", - писал Н. Бердяев об
этом времени [39, 38].
Внезапно оказалось, что не только воспевание "честного
труженика" и описание его горькой доли может быть предметом искусства.
Прокладываются пути к философии, мистике, новой эстетике, и вот тут-то и
открылся по-новому Ф. М. Достоевский. В начале XX века и в подготовившие его 90-е годы века XIX началась грандиозная переоценка
творчества писателя. Теперь Ф. М. Достоевский воспринимается не только как
певец униженных и оскорбленных, и прав был Н. Бердяев, определяя писателя как
экспериментатора: "У Достоевского было одному ему присущее, небывалое
отношение к человеку и его судьбе - вот где нужно искать его пафос...
Достоевский прежде всего великий антрополог, исследователь человеческой
природы, ее глубины и ее тайн. Все его творчество - антропологические опыты и
эксперименты. Достоевский - не художник-реалист, а экспериментатор, создатель
опытной метафизики человеческой природы... Он производит свои антропологические
исследования через художество, вовлекающее в самую таинственную глубину
человеческой природы" [40, 152 - 153].
Теперь на него смотрят как на "великого зачинателя и
предопределителя нашей культурной сложности", до которого "все в
русской жизни, в русской мысли было просто. Он сделал сложными нашу душу, нашу
веру, наше искусство..." - это слова одного из самых замечательных
деятелей русского духовного ренессанса начала XX столетия Вяч. Иванова [41, 299].
Новый век смотрелся в Ф. М. Достоевского, как в
зеркало, открывая свою собственную сложность в нем самом. Ф. М. Достоевский
поворачивается к исследователю неизведанной и непознанной своей стороной, и
начинается это еще в 90-е годы. Тогда впервые подает голос Д. Мережковский - он
пишет о внутреннем родстве писателя со своими читателями: "Достоевский
роднее, ближе нам. Он жил среди нас, в нашем печальном холодном городе; он не
испугался сложности современной жизни и ее неразрешимых задач, не бежал от
наших мучений, от заразы века. Он любит нас просто как друг, как равный - не в
поэтической дали, как Тургенев, и не с высокомерием проповедника, как Лев
Толстой. Он - наш всеми своими думами, всеми страданиями..." [42, 181].
1.1.6 Ф.М.
Достоевский в критике Серебряного века
В годы Серебряного века и подготовившие их 1890-е о Ф.
М. Достоевском пишут, читают лекции, рассуждают, и все то, что десять лет назад
народнической критике казалось его провалами, теперь обретает иное, чуть ли не
профетическое значение. В это время создается особая, философская критика,
отметающая как примитивно социологические, так и собственно литературоведческие
вопросы. Писатель впервые встает во весь рост как философ, а не просто
бытописатель или даже реалист русской классической литературы. Вспомним его
собственные слова: "Меня зовут психолог: неправда, я лишь реалист в высшем
смысле то есть, изображаю все глубины души человеческой" [43,
65].
Критика начала века пытается осознать философскую концепцию Ф. М.
Достоевского, и философы и критики самых разных направлений в эти годы пишут о
нем, каждый отыскивает в его наследии основополагающие положения для
обоснования своих воззрений. Еще в 1880-е годы К. Леонтьев писал о пользе,
которую может принести Ф. М. Достоевский в деле спасения молодежи и отвращения
ее от пагубных идей и принципов жизни. Правда, тогда же он начинает и
скептически относиться к собственно проповеди Ф. М. Достоевского - неслучайно в
письме к В. Розанову он пишет: "Не верьте ему, когда он хвалится, что
знает монашество; он знает хорошо только свою проповедь любви - и больше
ничего. Он в Оптиной пробыл дня два-три всего!.." [44, 179].
В. Розанов выявляет еще одну особенность Ф. М. Достоевского,
преломление его "публицистических" вещей в вечность, в "цельную
всемирную историю", стремление его Слова "возвести к глубочайшему
смыслу <истории> свой преходящий момент - вот что составляло его задачу и
что сказать о нем - значит действительно определить его значение. Печать его
эпохи, встревоженной, мятущейся, лежит на его взволнованных трудах; к счастью,
однако, он уберегся от обычных путей своего времени даже еще в ученические годы
- и в своем мощном воображении, гениальном уме и сердце, на тех уединенных
путях, которыми проходил жизнь, несколько переиначив действительность, возвел
ее к вечному смыслу..." [45, 180].
В эти годы ближе к собственно литературному анализу
творчества писателя подходит Д. Мережковский, рассматривающий Ф. М. Достоевского,
прежде всего в контексте литературы его времени, в ряду таких писателей, как И.
С. Тургенев и Л. Н. Толстой, выявляя присущие им, и на их фоне - именно ему,
характерные особенности творческой манеры. Он тоже отмечает особую, только Ф.
М. Достоевскому присущую сложность, уходящую гораздо глубже, чем полагали его
оппоненты народнического толка: "Может быть, именно для тех, кому
Достоевский кажется жестоким и только "жестоким талантом", - самые
главные жестокости его, самые смертельные жала и яды останутся навеки
безвредными" [46, 184].
И все же "столбовая" дорога нового познания Ф. М. Достоевского
в Серебряном веке проходила именно через его философскую и богословскую
концепции. С. Булгаков отмечает именно эту сторону его творчества: "В лице
Достоевского мы имеем не только бесспорно гениального художника, великого
гуманиста и народолюбца, но и выдающийся философский талант. Из всех наших
писателей почетное звание художника-философа принадлежит по праву Достоевскому;
даже Толстой, поставленный рядом с ним, в этом отношении теряет в своих
колоссальных размерах..." [47, 182].
И здесь рядом с именем Ф. М. Достоевского встает Лев
Толстой - видно, уж очень соблазнительно сравнить две столь разные по
творческим установкам и столь близкие по своим масштабам фигуры (примеров
множество и из других эпох: Пушкин и Лермонтов, Тютчев и Фет, Блок и Белый,
Ахматова и Цветаева, Пастернак и Маяковский)...
Л. Шестов пытается понять не просто философа или
церковного идеолога, а писателя-философа. Споря со старыми представлениями об
учительной роли литературы, он высказывает глубочайшую истину, которую раньше
заклеймили бы как истину презренного "чистого искусства": люди,
привыкшие к "простому" реализму ХIX столетия, "в его измученном тревожными думами лице...
хотят видеть признаки безумия, чтобы приобрести право отречься от него… И с
раздражением, смешанным с плохо скрываемою тревогой, они повторяют старый
вопрос: да кто же, наконец, все эти Достоевские и Ницше, что говорят как власть
имеющие? И чему они нас учат? Но они ничему нас не учат. Нет большего
заблуждения, чем распространенное в русской публике мнение, что писатель
существует для читателя. Наоборот - читатель существует для писателя.
Достоевский и Ницше говорят не затем, чтобы распространить среди людей свои
убеждения и просветить ближних. Они сами ищут света..." [48, 186].
Здесь, по сути, крамольно ниспровергаются
основополагающие принципы восприятия искусства и литературы в русской культуре.
Можно назвать это принципом искусства для искусства, если бы таковое на самом деле
существовало, но как ни назвать, здесь обстоит дело с совершенно новым
пониманием творческого процесса, познания мира через Слово, и это тоже впервые
стало столь очевидно именно на примере творчества Ф. М. Достоевского - потому
что невзирая на все его столь неизгладимое учительство, все же именно так он
шел "своими уединенными путями".
В более традиционном, но столь же углубленном и
обостренном, как и само творчество Ф. М. Достоевского, ключе пишет о нем Ин.
Анненский: "Над Достоевским тяготела одна власть. Он был поэтом нашей
совести... Достоевский реалист. Все, что он пишет, не только принадлежит
действительности, но страшно обыденно. Совесть, видите ли, не любит тешить себя
арабскими сказками... Достоевского упрекают в сгущении красок, в плеоназмах и нагромождениях
- но пусть каждый проверит себя в минуты насторожившейся или властно упрекающей
совести - и он ответит на это обвинение сам" [49, 126].
Голоса звучат, они сплетаются в единый хор, они
расходятся и ведут каждый свою партию... Вот слышен голос А. Белого:
"Неимоверная сложность Достоевского, несказанная глубина его образов -
наполовину поддельная бездна, нарисованная иной раз прямо на плоскости. Туман
неясности создавался на почве путаницы методов отношения к действительности.
Этот туман значительно углублял природную глубину таланта Достоевского... У
Достоевского не было слуха..." [50, 125].
А. Белый характеризует Ф. М. Достоевского как
"политиканствующего мистика", которому недоступен пресловутый
"голос музыки", а через несколько лет он скажет о нем как о
воплощении трагедии любого творчества: "Достоевский, как и Гоголь, как и
Толстой, есть воплощенное осознание корней самого творчества, более того:
крушение творчества. Достоевский, Гоголь, Толстой - предвестия того, что
трагедия русского творчества есть начало конца самой нашей благополучной
жизни" [51, 188].
Ему отзывается голос А. Блока, увидевшего на Ф. М.
Достоевском хорошо знакомую ему печать "страшного мира" и будущих
бурь: "...Результат воплощения прежде времени: воплотилось небытие... Достоевскому
снится вечная гармония; проснувшись, он не обретает ее, горит и сгорает... он
хочет преобразить несбыточное, превратить его в бытие и за это венчается
страданием" [52, 186]. Ф. М. Достоевский для А. Блока прежде всего
воплощение предвидений; ему в высшей степени открыта Музыка революции, которая
в те годы и составляет для обостренного слуха поэта Дух музыки - в противовес
утверждению А. Белого, что "у Достоевского не было слуха".
Безусловно, Ф. М. Достоевский оказывается прежде всего открыт именно
этому голосу, он пророк русской революции, он носит ее в себе и переживает
задолго до того, как она разразилась. Так считает Д. Мережковский; отталкиваясь
от чистого литературоведения, он в годы первой русской революции говорит о
пророческом даре великого писателя: "...Он... носил в себе начало этой
бури, начало бесконечного движения, несмотря на то, что хотел быть или казаться
оплотом бесконечной неподвижности; он был революцией, которая притворилась
реакцией... Достоевский - пророк русской революции. Но как это часто бывает с
пророками, от него был скрыт истинный смысл его же собственных пророчеств...
Надо разбить скорлупу, чтобы вынуть ядро. Это оказалось не по силам русской
критике. Но у русской революции достаточно крепкие зубы... она разбила и политическую
ложь Достоевского. И вот перед нами три осколка, три грани этой лжи:
"самодержавие", "православие" и "народность". А
за ними - нетленное ядро истины, лучезарное семя новой жизни, то малое
горчичное зерно, из которого вырастет великое дерево будущего: эта истина -
пророчество о Святом Духе и о Святой Плоти, о Церкви и Царстве Грядущего
Господа" [53, 127].
Д. Мережковский в это время уже одержим своей идеей
реформирования православия, т. е. реформирования того, что в принципе не
подлежит реформированию. В этой связи и для него тоже оказался полезен Ф. М.
Достоевский как оплот русского традиционного православия. Не взирая на то, что
действительно происходит у Ф. М. Достоевского, он смело приспосабливает его к
нуждам своего кощунственного учения о "Святой Плоти", на котором в
той или иной мере строятся многие его поздние произведения, и это один из
ранних примеров такого "подгона" Ф. М. Достоевского к
"партийным" интересам.
Более серьезно подходят к пониманию Ф. М. Достоевского
теоретики русского культурного ренессанса начала XX века - Вяч. Иванов и Н. Бердяев. Последний, "гениальный
описатель Серебряного века", по словам А. Ахматовой, в своих
многочисленных работах о Ф. М. Достоевском вскрывает многие сущностные грани
его творчества. Он говорит о Ф. М. Достоевском как о писателе-первопроходце
человеческих миров, уподобляемых им вселенным - так никто еще не воспринимал Ф.
М. Достоевского, но отныне именно такой взгляд на него будет лежать в основе
лучших исследований: "Сложная фабула его романов есть раскрытие человека в
разных аспектах, с разных сторон. Он открывает и изображает вечные стихии
человеческого духа. В глубине человеческой природы он раскрывает Бога и Диавола
и бесконечные миры, но всегда раскрывает через человека и из какого-то
исступленного интереса к человеку..." [54, 153].
Отталкиваясь от традиционных представлений о Ф. М.
Достоевском, Н. Бердяев создает в своих работах совершенно новый образ писателя
- не просто психолога и реалиста, но докапывается действительно до образа
"реалиста в высшем смысле слова", отвечающего новому представлению о
сложности жизни и литературного произведения. В своих работах Н. Бердяев всегда
конкретен, доказателен, основателен, он не витает в облаках преувеличений и
эффектных фраз, но выкапывает ту самую подпочвенную сущность писателя, которая
упорно не давалась критикам до Серебряного века. Вяч. Иванов, наоборот, в
присущем ему стиле пишет о Ф. М. Достоевском, поднимая его до глубин мифической
древности, тем самым, сообщая ему и его идеям панорамность самого величайшего
масштаба. "...Все мы - одна система вселенского кровообращении, питающая
единое всечеловеческое сердце", - говорит он. Эти идеи сами по себе весьма
близки идеям русской всечеловечности и всемирности, к которым пришел на закате
своей жизни Ф. М. Достоевский. Для Вяч. Иванова он становится одним из наиболее
выразительных русских писателей, причастных к мировому духу, а масштаб этой
величины позволил ему писать о Ф. М. Достоевском и о той роли, которую он
сыграл в становлении новой русской культуры, в самом высоком смысле:
"Достоевский зажег на краю горизонта самые отдаленные маяки, почти
невероятные по силе неземного блеска, кажущиеся уже не маяками земли, а
звездами неба... каждому взгляду поманившего нас водоворота, позвавшей нас
бездны он отзывается пением головокружительных флейт глубины..." [41, 299].
Для Вяч. Иванова Ф. М. Достоевский - величайший
мистик, потому что "трагедия Достоевского разыгрывается между человеком и
Богом и повторяется, удвоенная и утроенная, в отношениях между реальностями
человеческих душ; и, вследствие слепоты оторванного от Бога человеческого
познания, возникает трагедия жизни, и зачинается трагедия борьбы между
божественным началом человека, погруженного в материю, и законом отпавшей от
Бога тварности, причем человек... становится жертвою жизни" [55,
299]. В творчестве Ф. М. Достоевского Вяч. Иванов отслеживает трагические
законы жизни, просмотренные плоской народнической критикой, и отмечает, что Ф.
М. Достоевский "как бы подводит нас к самому ткацкому станку жизни и
показывает, как в каждой ее клеточке пересекаются скрещенные нити свободы и
необходимости" [55, 290].
Таким образом, критика начала века как бы творит нового Ф. М.
Достоевского - демона "слепого и могучего, пребывающего под страхом вечной
пытки", по слову А. Блока. Писатель словно вырос внезапно вместе с
интеллектуальным уровнем своих читателей, выпрямился во весь рост, открыл те
бездны в своем, таком, казалось раньше, понятном творчестве. Однако, конечно,
далеко не вся критика эпохи Серебряного века оказывалась столь глубокой и
тонкой. Резким диссонансом в ней звучит, увы, и сегодня весьма хорошо нам
знаком - голос "патриота", примитивного, самовлюбленного, уверенного
в себе: "Достоевский выступил вполне достойным сыном своего народа... Он
признал свое славянофильство таким, которое "кроме объединения славян под
началом России, заключает в себе духовное объединение всех верующих в то, что
великая наша Россия, во главе объединенных славян, еще скажет... всему
европейскому человечеству и его цивилизации свое новое, здоровое и еще не
слыханное миром слово..."" [56, 129].
Знакомые интонации, пикантные еще и тем, что в них
оказалось заключено пророчество, некстати услышанное "бесами"...
Столь же прямолинейна и проста в своих установках и критика марксистского толка
1910-х годов. Так, в 1912 году В. Переверзев пишет статью, чем-то напоминающую
будущие плакаты 20-х годов с мускулистыми рабочими, держащими на себе земной
шар: "...С проникновенным чувством рисует Достоевский все перипетии
скорбного существования "бедных людей"... Он сам переживает все их
страдания, волнуется их волнениями, думает их думами... болит душой за своих
погибших и погибающих... Итак, что же - "положение этих людей совсем
безвыходно"? Неужели нет в поле "живого человека"? Неужели нет
силы, способной подняться над сферой борьбы всех против всех... положить конец
беспощадной давке людей?
Есть в поле "жив человек"; он родился в тех же условиях слепой
сутолоки и безжалостной конкуренции, но не для того, чтобы подчиниться и пасть
под ее ударами, а для того, чтобы победить и подчинить ее власти человеческого
ума и воли... С тысячами товарищей он несет на своих плечах эту шумную жизнь,
своими мускулами и своими нервами он творит все это движение... Перед лицом
города рабочий не испытывает того чувства одиночества и беспомощности, какое
испытывают герои Достоевского..." [57, 189]. С упоением пишет критик, и очень скоро становится
понятным, что Ф. М. Достоевский опять стал только поводом, только порогом, от
которого можно оттолкнуться для того, чтобы восславить идеализированную,
наполовину придуманную фигуру будущего героя времени.
Гораздо страстней и категоричней, но и
бескомпромиссней М. Горький. Во многом воспитанный на воззрениях народников,
прежде всего Н. К. Михайловского, он повторяет за ним мысль о "жестоком
таланте". Добавляя еще и собственные эмоции: "Достоевский - сам
великий мучитель и человек больной совести - любил писать именно эту темную,
спутанную, противную душу..." [58, 129]. Все оказывается поразительно просто в этой критике и
разительно возвращает нас в лоно спасительного народничества. И хотя в будущем
победившие марксисты будут гнать и отзываться свысока о народнической доктрине,
все же истоки их собственного мировоззрения коренятся в культурной установке
более образованных, более интеллигентных народников со всеми их свойствами:
плоскостью мышления, утилитаризмом, диктаторским догматизмом. Как выяснилось
чуть позже, именно за ними было большое будущее, а вовсе не за сложными,
рафинированными рассуждениями русской интеллигенции.
Начало 1920-х годов еще по инерции шло в русле,
намеченном Серебряным веком. Как М. В. Добужинский создает свои бессмертные
иллюстрации к "Белым ночам", великолепное завершение мирискуснической
эпохи, так и Н. Бердяев, Н. О. Лосский, Л. Шестов еще пишут о Ф. М. Достоевском,
продолжая и развивая свои открытия, свои идеи. Они, эмигранты, и впрямь унесли
с собой вчерашний день России - с его интеллектуальными взлетами, пронзающими
душу откровениями, с его тонкостью, сложностью и глубиной.
С поэтическим пафосом и самозабвением вещает о Ф. М. Достоевском К.
Бальмонт: "...Много раз растоптанный Судьбой и узнавший, что на остриях
боли так же играет радуга, как она, играя стоит на горних высях свершившейся
грозы, он, говоривший и с Богом и с Дьяволом в полной мере человеческого голоса,
воистину питался душами… Он не страшился быть там, где страшно" [59, 193]. Велеречиво, красиво, отвлеченно и
несколько туманно - совсем как и полагается писать и говорить символистам.
Более конструктивно мыслит П. Струве: "Достоевский громадное религиозное
явление, как бы учитель веры и отец церкви в оболочке великого светского
писателя... Как таковой, он гораздо больше и сложнее, а потому и труднее для
понимания, чем великие пророки и учителя веры прежних времен... Он был
националистом во имя Бога, ибо в национальном призвании России он видел
подлинный зов Божий..." [60, 130]. Здесь, кстати, отмечена одна
тонкость, которую не мешало бы уяснить себе всем псевдолюбителям Ф. М.
Достоевского, видящим в нем прежде всего патриота, антисемита, шовиниста: П. Струве
говорит о природе национализма Ф. М. Достоевского, о сущности его православия,
которое для писателя действительно было знаком свыше в грядущей истории России.
В своей книге "Миросозерцание Достоевского"
Н. Бердяев фактически подводит черту под своей концепцией понимания Ф. М.
Достоевского. Как всегда у него, здесь нет лишних слов недосказанностей,
придуманностей там, где исследователь не знает что сказать. Сам опыт жизни
начала XX века выливается в слова этой работы:
"Достоевский открывает новые миры. Эти миры находятся в состоянии бурного
движения. Через эти миры и их движение разгадываются судьбы человека. Но те,
которые ограничивают себя интересом к психологии, к формальной стороне
творчества, - те закрывают себе доступ к этим мирам и никогда не поймут того,
что раскрывается в творчестве Достоевского... Только в начале XX века у нас началось духовное и
идейное движение, в котором родились души, более родственные
Достоевскому..."
Словно сама эпоха завершает здесь свое понимание Ф. М.
Достоевского умершего за сорок с лишним лет до того: "Достоевский отражает
все противоречия русского духа, всю его антиномичность... По Достоевскому можно
изучать наше своеобразное духовное строение... Не реальность эмпирического,
внешнего быта, жизненного уклада, не реальность почвенных типов реальны у
Достоевского. Реальна у него духовная глубина человека, реальна судьба
человеческого духа. Реально отношение человека и Бога, человека и дьявола,
реальны у него идеи, которыми живет человек" [там же].
Но в целом в 1920-е годы отношение к изучению
творческого наследия Ф. М. Достоевского меняется принципиально: пришел черед
серьезного литературоведения. В эти годы издаются его рукописи, письма,
записные книжки. Собрание вдовы писателя А. Г. Достоевской становится основой
для создания музея в московской Мариинской больнице (1928), Ф. М. Достоевскому
посвящаются многие серьезные научные работы. Вопросы поэтики, жанрового
своеобразия, художественного языка его произведений оказываются в центре
внимания ученых, воспитанных на философских откровениях начала века, на Н.
Бердяеве, С. Булгакове, Вяч. Иванове. Они показали, кем был и что делал Ф. М.
Достоевский; новые исследователи говорят о том, как он это делал.
Особые споры возникли вокруг жанрового своеобразия
романов Ф. М. Достоевского. Форма его романов представляется чем-то
принципиально новым не только в русской, но и в мировой литературе - само время
диктует совершенно новый взгляд на изменившийся мир. Литературная форма
становится сама по себе в глазах исследователей философичной, она едина со
своим новым содержанием, и видимость романа Ф. М. Достоевского как привычного и
традиционного жанра XIX века
выворачивается новым миропониманием в целом.
Собственно, об этом писал еще в 1910-е годы Вяч.
Иванов - это он ввел в обиход понятие "романа-трагедии": "Роман
Достоевского есть роман катастрофический, потому что его развитие спешит к
трагической катастрофе. Он отличается от трагедии только двумя признаками:
во-первых, тем, что трагедия у Достоевского не развертывается перед нашими
глазами в сценическом воплощении, а излагается в повествовании; во-вторых, тем,
что вместо немногих простых линий одного действия мы имеем перед собою как бы
трагедию потенцированную, внутренне осложненную и умноженную... как будто мы
смотрим на трагедию в лупу..." [61, 289].
Катарсис, через который проходят герои Ф. М.
Достоевского, есть, по Вяч. Иванову, тот "возродительный душевный процесс,
на утверждении и предвкушении которого зиждилась в древности чистая форма
Дионисовой трагедии" [61, 291]; сама форма романа Ф. М.
Достоевского оказывается значимой, возводя все переживаемое героями - и
читателями - к древней праоснове основ: экстатическому познанию гармонии в
дисгармонии и хаосе мира.
Теперь эта мысль начинает, как это обычно бывает,
разворачиваться в трудах исследователей, поворачиваться то одной, то другой
своей гранью, углубляться. Молодой исследователь Л. Гроссман, в 1915 году
напечатавший в "Русской мысли" большую, написанную в духе поэтической
философии Шпенглера статью о Ф. М. Достоевском и Европе, говорит о той
своеобразной форме, в которую выливаются замыслы писателя: "…Он создал
новый романический канон, который служит в настоящее время и, вероятно, еще
неоднократно будет служить родственным писательским темпераментам... Роман
Достоевского - это философский диалог, раздвинутый в эпопею приключений, это
"Федон" в центре "Парижских тайн" или смешение Платона с
Эженом Сю..." [62, 132].
Не просто рассказ о событиях, но гибкая, адекватная
происходящему в романе, его философской концепции форма слова - вот что такое
философский роман нового времени, открытый Ф. М. Достоевским. Теперь, в 20-е
годы, им начинают заниматься вплотную, серьезно, отталкиваясь от общей
концепции писателя. В 1929 году вышли в свет "Проблемы творчества
Достоевского" М. М. Бахтина, и этой книге суждено было стать
основополагающей для серьезного научного изучения Ф. М. Достоевского в XX веке.
М. М. Бахтин рассматривает жанр его романов как своеобразную философскую
категорию - литературная форма впервые становится предметом философии. Но не
только сама по себе форма романа; философской категорией оказывается прежде
всего принцип изображения мира Ф. М. Достоевским - то, чего никак не могли
постичь современники писателя.
М.М. Бахтин пишет: "…Мы считаем Достоевского
одним из величайших новаторов в области художественной формы. Он создал
совершенно новый тип художественного мышления, который мы условно называем
полифоническим... Можно даже сказать, что Достоевский создал как бы новую
художественную модель мира, в которой многие из основных моментов старой
художественной формы подвергались коренному преобразованию" [63, 132,
133].
Полифония, равноправие всех голосов, т. е. героев,
произведения, становится главной отличающей особенностью творчества Ф. М.
Достоевского для многих поколений ученых в разных странах. XX век увидел себя
не только в ней, но и в самой структуре безумно усложнившегося в представлении
читателей мире Ф. М. Достоевского. М. М. Бахтин говорит о Слове писателя как об
откровении: слово сливается с идеей. То, что традиционная критика рассматривала
как бы на разных уровнях, теперь, после открытия философской сущности Ф. М.
Достоевского, оказывается в представлении ученого вместилищем игр самих идей
как таковых, герои же оказываются как бы марионетками авторского замысла,
носителями идей.
М. М. Бахтин пишет: "Идея в его изображении
становится предметом художественного изображения, а сам Достоевский стал
великим художником идеи. ...Идея - как ее видел художник Достоевский - это не
субъективное индивидуально-психологическое образование с "постоянным
местопребыванием" в голове человека; сфера ее бытия не индивидуальное
сознание, а диалогическое общение между сознаниями... Идея - это живое событие,
разыгрывающееся в точке диалогической встречи двух или нескольких сознаний. Идея
в этом отношении подобна слову, с которым она диалектически едина. Именно как
такое живое событие, разыгрывающееся между сознаниями-голосами, видел и
художественно изображал идею Достоевский". Открытие М. М. Бахтина сразу же стало предметом бурного
обсуждения. Так, на его книгу откликнулся такой марксистского толка критик, как
А. В. Луначарский, воспитанный на философии и филологии 1910-х годов и
перенявший их поэтическую манеру речи; в нескольких своих статьях о Ф. М.
Достоевском, в которых, видимо, выплеснулся его собственный, минующий
политические нужды интерес к теме, он пишет велеречиво и пышно, эмоциями
подменяя строгий доскональный анализ, который отмечает настоящие научные
статьи: "Все его повести и романы - одна огненная река его собственных
переживаний. Это сплошное признание сокровенного своей души. Это страстное
стремление признаться в своей внутренней правде" [64, 133].
На книгу М. М. Бахтина А. Луначарский отозвался полным
приятием ее положений: "...М. М. Бахтину удалось не только установить с
большей ясностью, чем это делалось... до сих пор, огромное значение
многоголосности в романе Достоевского, роль этой многоголосности как
существеннейшей характерной черты его романа, но и верно определить ту
чрезвычайную, у огромного большинства других писателей совершенно немыслимую,
автономность и полноценность каждого "голоса", которая потрясающе
развернута у Достоевского... М. М. Бахтин отмечает, что все играющие
действительно существенную роль в романе голоса представляют собой
"убеждения"... Это, конечно, не просто теории, - это теории,
вытекающие как бы из самого "состава крови" действующего лица,
неразрывно с ним связанные, составляющие основную его природу. Романы
Достоевского суть великолепно обставленные диалоги" [65, 197].
Так марксистская критика приветствовала открытие
великого ученого. Рядом же существовало и более традиционное, но от этого
ничуть не проигрывающее литературоведение. Так, В. Виноградов в книге
"Эволюция русского натурализма" пишет о "необычайной, тонкой
архитектонике писем, извилистой сложности и законченности
стилистическо-композиционного рисунка", которая отличает такое
"классическое" произведение молодого Ф. М. Достоевского, как
"Бедные люди", с которым, казалось бы, критике и читателям все уже
давно стало ясно. Однако ученый отмечает, что это произведение на самом деле
"разрушает как канон сентиментализма, так и шаблоны натурализма",
выпадая из "исторической условности своей тематики" и поднимаясь над
"ограниченностью тех смыслов, которые вложили в него его современники"
[66, 297].
Связи Ф. М. Достоевского с литературным контекстом его
времени и времени, ему предшествующего, рассматривает А. Цейтлин в работе
"Повести о бедном чиновнике Достоевского". Он отмечает, что, конечно,
сюжеты ранних повестей писателя не пришли ему в голову спонтанно, без
предупреждения: "...Бесчисленной вереницей тянутся через все сороковые
годы эти повести о бедных чиновниках... Ко времени появления Достоевского
повесть эта шаблонизируется, и ее ситуации, из которых выветрилась личная,
индивидуальная авторская инициатива, сделались трафаретными". Исследователь отмечает, что "Достоевский не вносит новых
сюжетов, а, как и многие другие, пользуется сюжетами "натуральной
школы". Не как революционер, разрушитель шаблонов, подходит он к
натуральной школе, а как ее законный сын, продолжатель ее заветов... Он властно
использует раскаленные частицы металла, летящие из горна натуральной школы. Без
натуральной школы, без этих нескольких сотен рассказов нельзя понять молодого
Достоевского". Однако время диктует. Интересы собственно
научного, историко-литературного плана в изучении наследия Ф. М. Достоевского
постепенно отходят на задний план. В науку, в филологию, пришли новые критики,
не прошедшие даже и тех увлечений, которые оставили след на критическом
наследии А. Луначарского, который более чем к голосу научной истины,
прислушивался к голосам политической конъюнктуры. Менее образованные, более
прямолинейные, они словно и не подозревают о тех глубинах, о тех высотах,
которые теперь признаны обиталищем Ф. М. Достоевского, однако именно за ними
открывается теперь будущее науки. В том
же 1928 году выходит книга со знаменательным названием "Капитализм и
русская литература", автор которой Г. Горбачев позволяет себе
снисходительность по отношению к Ф. М. Достоевскому, в какой-то мере признавая
его заслуги и в то же время констатируя его неспособность к пролетарскому
пониманию происходящего: "Постоянными, неизменными в течение всей жизни
элементами социального мировоззрения Достоевского являлись: интеллигентский
антибарский демократизм и народничество, в смысле смиренной, ревнивой,
обидчивой любви к российскому мужику... Но сам он не сумел подняться над своей
мелкобуржуазной психологией и справиться со своим испугом перед
капиталистическим развитием... главным образом перед пролетарской революционной
борьбой. И самый гениальный мещанин не в состоянии дать больше того, что
позволяет его сущность".
Ф. М. Достоевский - "гениальный мещанин"!
Определение, в котором его автор даже не видит вопиющего противоречия и
несообразицы, однако он явно чувствует себя тем классическим критиком, который,
зная все лучше всех, готов учить и поучать писателей. Начинается столь
свойственное советской литературоведческой (и не только ей, но любой
гуманитарной) науке фамильярное похлопывание великих по плечу: тот чего-то
недопонял, этот не сумел подняться над своей ограниченностью, а вот Ф. М.
Достоевский так и остался мещанином, правда, почему-то - в чем-то -
гениальным...
Более агрессивен Г. Покровский. Он выступает против
самого уязвимого с точки зрения новой атеистической власти - против веры Ф. М.
Достоевского в Бога, рассматривая ее как "поповскую" проповедь:
"…Его мысль, что "все христовы идеи испорчены человеческим
умом", это типично буржуазная, религиозно-обновленческая уловка.
Обоготворять, идеализировать христа (вот так и написано с маленькой буквы) и во
всех пакостях обвинять великих и малых инквизиторов - это типично буржуазный
прием... Это... гнилая попытка обновить религию... создать новое религиозное
движение... В этом, несомненно, гнусная реакционнейшая роль Достоевского.
Классовое значение этого явления для нас ясно" [67, 198].
ГЛАВА 2. О РОМАНЕ "ИДИОТ"
2.1
Графические рисунки как отражение идеи творчества Ф.М. Достоевского в разных
редакциях
Федор Михайлович Достоевский редко говорил о своих рисунках и не оставил
нам никаких прямых письменных указаний на их существование. Писатель не любил
обсуждать с посторонними тайны своей творческой лаборатории. Его "записные
книжки", содержащие большую часть рисунков, сберегала вдали от посторонних
глаз как величайшую драгоценность его жена, Анна Григорьевна.
Проблема воплотимости человеческого характера в портрете волновала Ф. М.
Достоевского не меньше любого художника-портретиста. По страницам рукописей к
роману "Преступление и наказание" можно наблюдать графическую
разработку лица Раскольникова, его матери и сестры Сони, Порфирия, Лизаветы.
Иногда он рисовал своих современников и коллег по литературе - В. Г.
Белинского, М. М. Достоевского, А. А. Краевского, И. С. Тургенева. Встречаются
среди изображенных им лиц и любимые писатели - О. де Бальзак, М. Сервантес,
Тихон Задонский. Размышляя над особенностями жизненного пути так называемых
"великих людей", писатель рисовал в своей тетради лица Петра I,
Николая I, Наполеона III и Наполеона Бонапарта. Такого рода рисунки - всегда
появлялись в связи с разработкой нового плана романа, прототипами главных
действующих лиц которого оказывались деятели русской и европейской истории.
По предварительным вариантам замысла романа "Идиот" в центре
повествования должен был стоять не этически совершенный характер (князь
Мышкин), но его антипод - человек, одержимый темными и сильными страстями.
Среди записей в "тетради" нарисован первый
литературный портрет будущего героя: "страстные и бурные порывы,
клокотание вверх и вниз; тяжело носить самого себя, натура сильная, неудержимые
до ощущения сладострастия, порывы лжи (Иван Грозный), много подлостей и темных
дел".
Писателя тревожил образ героя никак не удовлетворявшем
требованием художественной задачи, говорят и каллиграфические "размышления"
- "Идиот", а также встречающиеся в разных "записных
тетрадях", письмах Ф. М. Достоевского этого периода. Много позже в письме
своей племяннице С.А. Ивановой, писатель говорил о том, что решил поставить в
центр повествования образ "положительно-прекрасного человека",
который сравниваемый с Пиквиком и Дон Кихотом, Христом и Жаном Вальжаном.
Выяснить "лик" героя - важнейшая задача Ф.
М. Достоевского. По-видимому, не без связи с поиском своего героя писатель
создает в своей записной тетради ряд рисунков, представляющих собой прекрасно
прорисованные портреты мужских лиц. В процессе рисования Ф. М. Достоевский
искал какое-то одно художественно оправданное лицо, которое смогло стать
основой будущего повествования.
На л. 7 "тетради" изображен мужской портрет
в сложном ракурсе три четверти влево и сверху, представляет собой изображение
человека с очень странным, необычным лицом: большие, неправильной формы, с
какими-то странными шишками на затылке головы, переразвитая нижняя челюсть,
короткий и широкий нос, огромный подковообразный рот, сложенный к тому же в
какую-то двусмысленную хитро-жестокую улыбку.
Ф. М. Достоевский особо подчеркивает врожденную
аномалию своего героя.

Набросок портрета "идиота" - главного героя неосуществленной
первой редакции романа "Идиот". 1867 г.
Естественно, что "лицо идеи" так и осталась
неосуществленным. Ф. М. Достоевский переворачивает страницу тетради и на л. 9
набрасывает новый портрет, сохраняя основные черты лица героя, он меняет ракурс
изображения - строго анфас, как бы стараясь заглянуть ему прямо в глаза.
Меняется и выражение лица: со странной улыбкой
"про себя" - на мрачное, жестокое выражения "страсти". В
упор на нас смотрят маленькие глаза, углы его рта решительно опущены вниз, однако
крупный багровый лоб уже не кажется безобразным.

Изображение лица главного героя романа "Идиот" (первая
редакция). 1867 г.
Через две страницы после создания портрета героя, Ф. М. Достоевский снова
подчеркивает: "NB. Страстные и
бурные порывы. Никакой холодности и разочарованности, ничего пущенного в ход
Байроном" [1, 209].
Писатель уже рисует главного героя в образе старца, верующего в Бога,
живущего для людей, помогающий людям.
Первая встреча в присутствии многих людей князя и Настасьи Филипповны.
Сфера эта - в вечности. Там и происходила эта "вечная" встреча.
Посреди нечаянного свидания, вполне реального и конкретного, вдруг обнажается
нечто вечное. Оба затронутых им человека не столько припоминают минувшее, сколько
ощущают свою причастность к такому бытию, в котором не существует времени, но
вместе с тем заключен смысл всего временного. Во встрече, протекающей во
времени, проступает ядро, лежащее в иной сфере.
Настасья Филипповна "будто видела" его уже, но не помнит где.
Она не осознает, что видит не что иное, как сходство его с Христом, и что при
этом тот человек в ней, который жаждет спасения, узнает в нем Спасителя - тем
чувством "вечного" узнавания, где вечное понимается не как мера
времени и продолжительности, а как свойство исходящего от Бога бытия,
воспринимаемого хоть и в потоке времени, но "вечно"... Вечная эта
встреча дарована и князю. Он видит Настасью Филипповну впервые, в данный,
конкретный момент, но в этой сиюминутности пробуждается то, "вечное",
улавливаемое князем благодаря его "вечному" посланничеству. Здесь
перед нами - всего лишь человек, но из облика его проступают такие черты,
которые складываются в бытие уже не просто человека, а Спасителя.
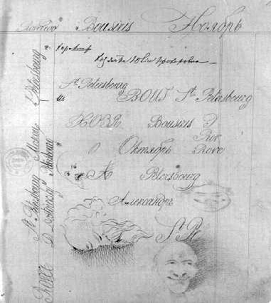
Портретные
наброски "старца", носителя идеи христианского возрождения России, и
"идиота", главного героя неосуществленного замысла романа
"Идиот" (первая редакция). 1867 г.
В
процессе написание романа у Ф. М. Достоевского, как мы видим, менялся образ
главного героя от одержимого жестокого человека до конечного - Богочеловека.
2.2 Отзывы
критиков о романе "Идиот"
Первые отзывы о романе дошли до Ф. М. Достоевского еще до окончания
"Идиота" от его петербургских корреспондентов. После выхода в свет
январского номера журнала с начальными семью главами в ответ на взволнованное
признание Ф. М. Достоевского в письме от 18 февраля (1 марта) 1868 г. в том,
что он сам ничего не может "про себя выразить" и нуждается в
"правде", жаждет "отзыва". А. Н. Майков писал:
"...имею сообщить Вам известие весьма приятное: успех. Возбужденное
любопытство, интерес многих лично пережитых ужасных моментов, оригинальная
задача в герое <...> Генеральша, обещание чего-то сильного в Настасье
Филипповне, и многое, многое - остановило внимание всех, с кем говорил
я..." Далее А. Н. Майков ссылается на общих знакомых - писателя и историка
литературы А. П. Милюкова, экономиста Е. И. Ламанского, а также на критика Н.
И. Соловьева, который просил передать "свой искренний восторг от
"Идиота"" и свидетельствовал, что "видел на многих сильное
впечатление" [2, 65, 66-67].
Однако в связи с появлением в февральской книжке "Русского
вестника" окончания первой части А. Н. Майков в письме от 14 марта 1868
г., определяя художественное своеобразие романа, оттенил свое критическое
отношение к "фантастическому" освещению в нем лиц и событий:
"...впечатление вот какое: ужасно много силы, гениальные молнии
(напр<имер>, когда Идиоту дали пощечину и что он сказал, и разные
другие), но во всем действии больше возможности и правдоподобия, нежели истины.
Самое, если хотите, реальное лицо - Идиот (это вам покажется странным?), прочие
же все как бы живут в фантастическом мире, на всех хоть и сильный,
определительный, но фантастический, какой-то исключительный блеск. Читается
запоем, и в то же время - не верится. "Преступл<ение> и
наказ<ание>", наоборот,- как бы уясняет жизнь, после него как будто
яснее видишь в жизни <...> Но - сколько силы! сколько мест чудесных! Как
хорош "Идиот"! Да и все лица очень ярки, пестры - только освещены-то
электрическим огнем, при котором самое обыкновенное, знакомое лицо,
обыкновенные цвета - получают сверхъестественный блеск, и их хочется как бы
заново рассмотреть <...> В романе освещение, как в "Последнем дне
Помпеи": и хорошо, и любопытно (любопытно до крайности, завлекательно), и
чудесно!" Соглашаясь, что это "суждение, может быть, и очень
верно", Ф. М. Достоевский в ответном письме от 21-22 марта (2-3 апреля)
1868 г. выдвинул ряд возражений: указал на то, что "многие вещицы в конце
1-й части взяты с натуры, а некоторые характеры просто портреты". Особенно
он отстаивал "совершенную верность характера Настасьи Филипповны". А
в письме к С. А. Ивановой от 29 марта (10 апреля) 1868 г. автор отмечал, что
идея "Идиота" - "одна из тех, которые не берут эффектом, а
сущностью".
Первые две главы второй части (Мышкин в Москве, слухи о нем, письмо его к
Аглае, возвращение и визит к Лебедеву) были встречены А. Н. Майковым очень
сочувственно: он увидел в них "мастерство великого художника <...> в
рисовании даже силуэтов, но исполненных характерности" [там же]. В более позднем письме от 30
сентября старого стиля (когда уже была напечатана вся вторая часть и начало
третьей) А. Н. Майков, утверждая, что "прозреваемая" им идея
"великолепна", от лица читателей повторил свой "главный упрек в
фантастичности лиц" [3, 351, 353].
Спустя два года Н. Н. Страхов, вновь вернувшись к сопоставлению Л. Н.
Толстого и Ф. М. Достоевского, прямо и категорично признал "Идиота"
неудачей писателя. "Очевидно - по содержанию, по обилию и разнообразию
идей, - писал он Ф. М. Достоевскому 22 февраля старого стиля 1871 г., - Вы у
нас первый человек, и сам Л. Н. Толстой сравнительно с Вами однообразен. Этому
не противоречит то, что на всем Вашем лежит особенный и резкий колорит. Но
очевидно же: Вы пишете большею частью для избранной публики, и Вы загромождаете
Ваши произведения, слишком их усложняете. Если бы ткань Ваших рассказов была
проще, они бы действовали сильнее. Например "Игрок", "Вечный
муж" произвели самое ясное впечатление, а все, что Вы вложили в
"Идиота", пропало даром. Этот недостаток, разумеется, находится в
связи с Вашими достоинствами <...> И весь секрет, мне кажется, состоит в
том, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати
образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен. Простите
<...> Чувствую, что касаюсь великой тайны, что предлагаю Вам нелепейший
совет перестать быть самим собою, перестать быть Достоевским" [5, 271].
Сам писатель с частью этих замечаний вполне соглашался. Закончив роман,
он не был доволен им, считал, что "не выразил и 10-й доли того, что
<...> хотел выразить", "хотя все-таки, - признавался он С. А.
Ивановой в письме от 25 января (6 февраля) 1869 г., - я от него не отрицаюсь и
люблю мою неудавшуюся мысль до сих пор".
Вместе с тем, размышляя над предъявленными ему требованиями и соотнося
"Идиота" с современной ему литературой, Ф. М. Достоевский отчетливо
осознавал отличительные черты своей манеры и отвергал рекомендации, которые
помешали бы ему "быть самим собой". 11(23) декабря 1868 Ф. М.
Достоевский писал А. Н. Майкову: "Совершенно другие я понятия имею о
действительности и реализме, чем наши реалисты и критики". Утверждая, что
его "идеализм" реальнее "ихнего" реализма, писатель
замечал, что если бы "порассказать" о том, что "мы все, русские,
пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии",
критики-"реалисты", привыкшие к изображению одного лишь прочно
устоявшегося и оформившегося, "закричат, что это фантазия!", в то
время как именно это есть, по его убеждению, "исконный, настоящий
реализм!" По сравнению с поставленной им перед собой задачей создания
образа "положительно-прекрасного человека" бледным и незначительным
казался ему герой А. Н. Островского Любим Торцов, воплощавший, по заключению автора
"Идиота" в том же письме, "все, что идеального позволил себе их
реализм". Откликаясь в письме к Н. Н. Страхову от 26 февраля (10 марта)
1869 г. на статью его о Л. Н. Толстом и "с жадностию" ожидая его
"мнения" об "Идиоте", Ф. М. Достоевский подчеркивал:
"У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, что
большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда
составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный
взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив". И далее в
развитие мысли нереализованного авторского отступления из летних набросков к
"Идиоту" 1868 г. спрашивал своего адресата: "Неужели
фантастический мой "Идиот" не есть действительность, да еще самая
обыденная! Да именно теперь-то и должны быть такие характеры в наших оторванных
от земли слоях общества, - слоях, которые в действительности становятся
фантастичными. Но нечего говорить! В романе много написано наскоро, много
растянуто и не удалось, но кое-что и удалось. Я не за роман, а я за идею мою
стою".
Из ранних эпистолярных откликов более всего могло обрадовать Ф. М.
Достоевского сообщение о возбужденном после появления первой части интерес к
"Идиоту" у читающей публики его давнего знакомого доктора С. Д. Яновского,
писавшего из Москвы 12 апреля старого стиля 1868 г. о том, что "масса вся,
безусловно вся в восторге!" и "везде", "в клубе, в
маленьких салонах, в вагонах на железной дороге", только и говорят о
последнем романе Ф. М. Достоевского, от которого, по высказываниям,
"просто не оторвешься до последней страницы". Самому С. Д. Яновскому
личность Мышкина полюбилась так, "как любишь только самого себя", а в
истории Мари, рассказе о сюжете картины "из одной головы"
приговоренного, сцене разгадывания характеров сестер он увидел "торжество
таланта" Ф. М. Достоевского [3, 375 - 376].
Об успехе "Идиота" у читателей свидетельствуют и отзывы газет о
первой части романа. Корреспондент "Голоса" в обзоре
"Библиография и журналистика" объявлял, что "Идиот"
"обещает быть интереснее романа "Преступление и наказание"
<...>, хотя и страдает теми же недостатками - некоторою растянутостью и
частыми повторениями какого-нибудь одного и того же душевного движения", и
трактует образ князя Мышкина как "тип", который "в таком широком
размере встречается, может быть, в первый еще раз в нашей литературе", но
в жизни представляет "далеко не новость": общество часто
"клеймит" таких людей "позорным именем дураков и идиотов",
но они "по достоинствам ума и сердца стоят несравненно выше своих
подлинных хулителей" [6, 27].
Составитель "Хроники общественной жизни" в "Биржевых
ведомостях" выделял "Идиота" как произведение, которое
"оставляет за собою всё, что появилось в нынешнем году в других журналах
по части беллетристики", и отмечая глубину и "совершенство"
психологического анализа в романе, подчеркнул внутреннее родство центрального
героя и его создателя. "Каждое слово, каждое движение героя романа, князя
Мышкина, - писал он, - не только строго обдумано и глубоко прочувствовано
автором, но и как бы пережито им самим" [7, 26].
По определению рецензента "Русского инвалида", "трудно
угадать", что сделает автор с Мышкиным, "взрослым ребенком",
"этим оригинальным лицом, насколько рельефно удастся ему сопоставить
искусственность нашей жизни с непосредственной натурой, но уже теперь можно
сказать, что роман будет читаться с большим интересом. Интрига завязана
необыкновенно искусно, изложение прекрасное, не страдающее даже длиннотами,
столь обыкновенными в произведениях Достоевского" [8, 23].
Наиболее обстоятельный и серьезный разбор первой части романа был дан в
статье "Письма о русской журналистике. "Идиот". Роман Ф. М.
Достоевского", помещенной в "Харьковских губернских ведомостях",
за подписью "К". "Письма" начинались с напоминания о
"замечательно-гуманном" отношении Ф. М. Достоевского к
"униженным и оскорбленным личностям" и его умении "верно
схватить момент высшего потрясения человеческой души и вообще следить за
постепенным развитием ее движений" как о тех качествах его дарования и
особенностях литературного направления, которые вели к "Идиоту".
Обозначившиеся контуры построения романа в статье характеризовались следующим
образом: "... пред читателем проходит ряд людей действительно живых,
верных той почве, на которой они выросли, той обстановке, при которой слагался
их нравственный мир, и притом лиц не одного какого-нибудь кружка, а самых
разнообразных общественных положений и степени умственного и нравственного
развития, людей симпатичных и таких, в которых трудно подметить хоть бы слабые
остатки человеческого образа, наконец, несчастных людей, изображать которых
автор особенно мастер <...>. В круговороте жизни, в который автор бросает
своего героя, - на идиота не обращают внимания; когда же при столкновении с ним
личность героя высказывается во всей ее нравственной красоте, впечатление,
наносимое ею, так сильно, что сдержанность и маска спадает с действующих лиц и
нравственный их мир резко обозначается. Вокруг героя и при сильном с его
стороны участии развивается ход событий, исполненный драматизма". В
заключение рецензент высказывал предположение об идейном смысле романа.
"Трудно на основании одной только части романа судить, что автор задумал
сделать из своего произведения, но его роман, очевидно, задуман широко, по
крайней мере этот тип младенчески непрактичного человека, но со всей прелестью
правды и нравственной чистоты, в таких широких размерах впервые является в
нашей литературе" [9, 19].
Отрицательную оценку "Идиота" дал В. П. Буренин в трех статьях
из цикла "Журналистика", подписанных псевдонимом "Z",
появившихся в "С.-Петербургских ведомостях" в ходе публикации первой
и второй частей романа. Находя, что Ф. М. Достоевский делает своего героя и
окружающих его лиц "аномалиями среди обыкновенных людей", вследствие
чего повествование "имеет характер некоторой фантасмагории", В. П.
Буренин иронически замечал: "Роман можно было бы не только
"Идиотом" назвать, но даже "Идиотами", ошибки не оказалось
бы в подобном названии". В заключительной третьей статье он поставил знак
равенства между изображением душевного состояния Мышкина и медицинским
описанием состояния больного человека и не обнаружил в "Идиоте" связи
с действительной почвой и общественными вопросами, расценил его как
"беллетристическую компиляцию, составленную из множества лиц и событий, без
всякой заботливости хотя о какой-либо художественной задаче" [10, 15, 21, 22].
Позднее, в 1876 г. В. П. Буренин частично пересмотрел свою прежнюю оценку
Ф. М. Достоевского в своих "Литературных очерках", придя к выводу,
что "психиатрические художественные этюды" Ф. М. Достоевского имеют
"полное оправдание" в русской жизни, недавно освободившейся от
крепостного права, "главного и самого страшного из тех рычагов, которые
наклоняли ее человеческий строй в сторону всякого бесправия и беспутства, как
нравственного, так равно и социального". Но "Идиота" (наряду с
"Белыми ночами") В. П. Буренин по-прежнему отнес к исключениям,
уводящим в "область патологии" [11, 10].
Менее категоричным было осуждение романа в напечатанном в январе 1869 г.
анонимном обозрении "Вечерней газеты", принадлежащем, как
установлено, Н. С. Лескову [12, 224 - 229]. Считая, подобно В. П. Буренину и многим другим
представителям тогдашней критики, судившим о психологической системе романиста
с чуждой ей эстетической позиции, что действующие лица романа "все, как на
подбор, одержимы душевными болезнями", Н. С. Лесков стремился все же
понять исходную мысль, которой руководствовался.
Ф. М. Достоевский в обрисовке характера центрального героя. "Главное
действующее лицо романа, князь Мышкин, - идиот, как его называют многие, -
писал Н. С. Лесков, - человек крайне ненормально развитый духовно, человек с
болезненно развитою рефлексиею, у которого две крайности, наивная
непосредственность и глубокий психологический анализ, слиты вместе, не
противоречат друг другу; в этом и заключается причина того, что многие считают
его за идиота, каким он, впрочем, и был в своем детстве". Статья Н. С. Лескова была последним критическим откликом,
появившимся до публикации заключительных (пятой-двенадцатой) глав четвертой
части. После завершения печатания "Идиота" Ф. М. Достоевский
естественно ожидал более всестороннего и детального анализа романа. Но такого
обобщающего отзыва не последовало. Вообще в течение ближайших двух лет о романе
не появилось ни одной статьи или рецензии, что очень огорчало писателя,
утверждая его в мысли о "неуспехе" "Идиота". Причина
молчания крылась отчасти в противоречивости идеологического звучания романа,
гуманистический пафос которого сложным образом сочетался с критикой
"современных нигилистов": изображенная в нем борьба идей не получила
разрешения, которое бы полностью удовлетворило рецензентов как консервативного
или либерального, так и демократического лагеря. С другой же стороны, тогдашняя
критика еще не была достаточно подготовлена к восприятию эстетического
новаторства Ф. М. Достоевского, в художественной системе которого роль
"фантастических", "исключительных" элементов реальной жизни
выступала столь резко. Наиболее глубоко проникнуть в замысел
романа и в полной мере оценить значение его удалось при жизни Ф. М.
Достоевского M. E. Салтыкову-Щедрину. Несмотря на различие
общественно-политических позиций и полемику, продолжавшуюся даже на страницах
романа, великий сатирик оставил знаменательный отзыв об "Идиоте", в
котором проницательно охарактеризовал как слабые, так и сильные стороны
дарования Ф. М. Достоевского, близкого некоторыми своими чертами складу его
собственного таланта. В рецензии, посвященной роману Омулевского "Шаг за
шагом" и опубликованной в апрельском номере "Отечественных записок"
за 1871 г., М. Е. Салтыков-Щедрин, анализируя состояние русской литературы тех
лет, выделил Ф. М. Достоевского и подчеркнул, что "по глубине замысла, по
ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у нас
совершенно особняком" и "не только признает законность тех интересов,
которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область
предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а
отдаленнейших исканий человечества". Как на убедительную иллюстрацию к
этому своему тезису М. Е. Салтыков-Щедрин указал на попытку изобразить тип
человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия, положенную в
основание романа "Идиот". Утверждая, что "стремление человеческого
духа прийти к равновесию и гармонии" существует непрерывно,
"переходит от одного поколения к другому, наполняя собой содержание
истории", М. Е. Салтыков-Щедрин в намерении Ф. М. Достоевского создать
образ "вполне прекрасного человека" увидел такую задачу, "перед
которою бледнеют всевозможные вопросы о женском труде, о распределении
ценностей, о свободе мысли и т. п.", так как это "конечная цель, в
виду которой даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов,
интересующих общество, кажутся лишь промежуточными станциями". В то же
время страстный протест сатирика-демократа вызвало "глумление" Ф. М.
Достоевского "над так называемым нигилизмом и презрение к смуте, которой
причины всегда оставляются без разъяснения". Отмечая черты не только
близости, но и расхождения идеалов Ф. М. Достоевского с передовой частью
русского общества, ее взглядами на пути достижения будущей всеобщей
"гармонии", М. Е. Салтыков-Щедрин писал: "И что же? - несмотря
на лучезарность подобной задачи, поглощающей в себе все переходные формы прогресса,
Достоевский, нимало не стесняясь, тут же сам подрывает свое дело, выставляя в
позорном виде людей, которых усилия всецело обращены в ту самую сторону, в
которую, по-видимому, устремляется и заветнейшая мысль автора". "Последующие прижизненные суждения об
"Идиоте", появлявшиеся на протяжении 70-х годов то в составе статей и
заметок о поздних сочинениях Достоевского, то в общих обзорах его творческого
пути в основном систематизировали и развивали уже сказанное о романе
ранее". Высокую оценку центральному герою
романа Ф. М. Достоевского дал Л. Н. Толстой. В мемуарах писателя С. Т. Семенова
приведена реплика Л. Толстого по поводу услышанного им от кого-то мнения о
сходстве между образами князя Мышкина и царя Федора Иоанновича в пьесе А. К.
Толстого. "Вот неправда, ничего подобного, ни в одной черте, - горячился
Л. Н. Толстой. - Помилуйте, как можно сравнить Идиота с Федором Ивановичем,
когда Мышкин это бриллиант, а Федор Иванович грошовое стекло - тот стоит, кто
любит бриллианты, целые тысячи, а за стекла никто и двух копеек не даст" [16, 82]. Но отзывы автора "Войны и
мира" об "Идиоте" как целостном произведении разноречивы; в них
проступает печать его собственной творческой индивидуальности и эстетики:
требования ясности изложения, здоровья, простоты (см. запись беседы В. Г.
Черткова с писателем в июле 1906 г. и высказывания Л. Толстого о романе,
воссозданные в его литературном портрете М. Горьким).
К середине 1870-х годов Ф. М. Достоевский располагал уже фактами,
свидетельствующими о широком признании, которое получил "Идиот" в
читательской среде. Об этом говорит заметка в записной тетради 1876 г.:
"Меня всегда поддерживала не критика, а публика. Кто из критики знает
конец "Идиота" - сцену такой силы, которая не повторялась в литературе.
Ну, а публика ее знает..." О том, насколько замысел "Идиота"
глубоко волновал самого Ф. М. Достоевского, и какое значение он придавал
способности других проникнуть в него, можно судить по ответу писателя А. Г.
Ковнеру, выделившему "Идиота" из всего созданного Ф. М. Достоевским
как "шедевр". "Представьте, что это суждение я слышал уже раз
50, если не более,- писал Ф. М. Достоевский 14 февраля 1877 г. - Книга же
каждый год покупается и даже с каждым годом больше. Я про "Идиота"
потому сказал теперь, что все говорившие мне о нем, как о лучшем моем
произведении, имеют нечто особое в складе своего ума, очень меня всегда
поражавшее и мне нравившееся".
СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЬКУЛЯЦИИ И АНАЛИЗ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗДАНИЯ: Ф.М. ДОСТЕВСКИЙ "БЕДНЫЕ ЛЮДИ, ДВОЙНИК"
В экономической части дипломной работы мы рассчитываем расходы на
переиздание сборника: Достоевский Ф. М. Бедные люди: Роман; Двойник:
Петербургская поэма. - М.: Сов. Россия, 1985. - 272 с.
Благодаря своему реализму Достоевский Ф. М. остается актуальным до сих
пор. Его можно многократно перечитывать и все время находить что-то новое,
читая его произведения, понимаешь, что на место его героев можно поставить
наших современников.
Достоевский Ф. М. выявляет самые потаенные уголки человеческой души.
Современное общество во многом опирается на конкуренцию, борьбу, властолюбие,
т. е. на те чувства и качества, о которых талантливо писал Достоевский Ф. М.
Общество, построенное на сиюминутной выгоде, на делении людей на
"нужных" и "ненужных", общество, в котором люди привыкают к
страшнейшему из грехов - убийству, не может быть нравственным и никогда люди не
будут чувствовать себя счастливыми в таком обществе.
Сегодняшнее литературное течение близко к реализму Достоевского Ф. М.
Современный реализм это не просто описательность, а поиск глубинных смыслов. И поэтому
произведения Ф. М. Достоевского будут многократно переиздаваться. Классика
всегда ценилась и на нее найдется покупатель.
Множество людей задают себе такие же вопросы, какие задавали себе герои
Достоевского Ф. М. Люди, живущие в XXI веке, стоят перед выбором: принять за истину то, с чем легче всего жить,
или через страдания и ошибки, борьбу и неудачи пробиться к тому единственному и
вечному, что называют Истиной. Особенно актуальны идеи Достоевского Ф. М.,
когда обезумевший мир шаг за шагом приближается к гибели не только духовной, но
и физической. Что же спасет мир? Да и есть ли у мира надежда на спасение? На
эти вопросы еще в XIX веке ответил Достоевский: "Красота спасет мир!"
Проблемы, поставленные Достоевским Ф. М., остры в наше время нисколько не
меньше, а может быть даже и больше.
Видовая и типологическая характеристика издания
Тип - массовое издание;
По целевому назначению - литературно-художественное издание;
Читательский адрес - массовый читатель;
По характеру информации - текстовое издание;
По знаковой природе информации - текстовое издание;
По составу основного текста - сборник;
По периодичности выпуска - непериодическое издание;
По материальной конструкции - книжное издание;
По объему - книга.
Последовательность расчета себестоимости и отпускной цены
издания
Себестоимость - совокупность затрат на производство (выпуск) и реализацию
продукции.
Средняя структура себестоимости издательской продукции, как примерное
соотношение различных видов затрат в общей их сумме, может быть представлена
следующим образом:
· авторский гонорар - 15%;
· редакционные расходы - 10%;
· расходы на типографские работы, бумагу и переплетные
материалы - 55%;
· общеиздательские расходы - 15%;
· коммерческие расходы - 5%;
· полная себестоимость - 100%;
· ДС = (себестоимость + рентабельность);
· НДС = (ДС × 10)/100%;
Прибыль = (себестоимость × рентабельность (25-30%)) : 100;
Отпускная цена = (себестоимость + прибыль) + НДС (10%).
Технические характеристики переиздания
- Объем издания - 272 с.
Формат 84 × 108 1/32.
Печать офсетная.
Тираж издания - 5000 экземпляров.
Печать текста в одну краску.
Печать переплета - четырехцветная.
Иллюстрации - занимают 3 полосы.
Кегль основного текста - 12 пунктов.
Гарнитура - "Таймс".
Переплет - № 7Б, цельнобумажный с припрессованной пленкой.
Бумага офсетная № 2Б массой 60 г/м.2 Бумага № 2Б с пониженной
белизной и недостаточной стойкостью поверхности к выщипыванию. Экономически это
выгодно, так как тираж издания средний, сборник рассчитан на массового
читателя.
Формат полосы набора - 6 × 9 ¾ кв.
Формат страницы - 123×192 мм.
Расчет себестоимости переиздания сборника: Достоевский Ф. М.
"Бедные люди, Двойник"
Расчет объема произведения в авторских листах
Количество рядовых полос в издании - 190.
В 10 случайно выбранных строках текста - 560 знаков.
Среднее количество знаков в строке - 560/10 = 56 знаков.
На рядовой полосе размещается 44 строки.
Количество знаков на одной рядовой полосе: 44 · 56 = 2464 знака.
Количество знаков на всех рядовых полосах: 190 · 2464 = 468160 знаков.
Количество спусковых и концевых полос - 4.
Количество знаков на двух спусковых полосах: (27 + 28) · 56 = 3080
знаков.
Количество знаков на двух концевых полосах: (27 + 36) · 56 = 3528 знаков.
Количество знаков на всех спусковых и концевых полосах: 118 · 56 = 6608
знаков.
Количество знаков на сверстанных вразрез полосах: 2351 · 56 = 131656
знаков.
Количество авторских листов: 606424/40000 = 15,16 авт. л.
Издание - безгонорарное.
Иллюстрации: 3(12,3 · 19,2) = 236,16 · 3 = 708,48 см.2 = 0,24
авт. листов.
За оформление книги художнику заплатим авторский гонорар в размере -
20000 рублей.
Расчет объема издания в учетно-издательских листах
Титульные данные, оборот титульного листа и выходные сведения принимаются
за 1000 знаков.
Количество знаков в содержании - 132 знака.
Колонцифры - 272 · ½ · 56 = 7616 знаков.
Количество знаков в послесловии - 16234 знака.
Всего учетно-издательских листов в издании: (1000 + 132 + 7616 +
16234)/40000 + 0,24 + 15,16 = 16 учетно-издательских листов.
Расходы бумаги для изготовления книжного блока
Объем книжного блока в физических печатных листах: 272/32= 8,5 печатных
листов.
Объем в бумажных листах: 8,5/2 = 4,25 бум. л.
Технические отходы: 4,25 ∙ 10%/100 = 0,425 бум. л.
Количество бумажных листов для тиража: 4,25 + 0,425 ∙ 5000 экз. =
23375 бум. л.
Плотность одного бумажного листа 60 г/м.2
Масса одного бумажного листа: 84 × 108/10000 ∙ 60 = 54,4 г.
Масса бумаги для тиража: 23375 ∙ 54,4/1000000 = 1,27 т.
Стоимость бумаги: 1,27 ∙ 27000 руб. = 34290 рублей.
Расходы на переплетные материалы и форзацную бумагу
Расходы на бумагу для переплета.
Толщина блока - 18 мм, ширина рулона бумаги - 780 мм, толщина картона -
1,75 мм.
Размер заготовки бумаги: ширина = (2 · 123) + (2 · 1,75) + (1 · 18) +
1,75 + 36 = 305,25 = 306 мм; высота = 192 + (2 · 1,72) + 34 = 229,5 мм = 230
мм.
По ширине рулона бумаги укладывается: (780 - 18)/306 = 2 заготовки.
Расчетное число метров материала на тираж: (5000/2) · 230/1000 = 575 м.
Количество материала на технические отходы: 5% от 575 м. составляет 29 м.
Расчет общего количества материала на тираж: 575 + 29 = 604 м.
Площадь всей бумаги для перелета: 604 · 0,78 = 472 м.2
Плотность бумаги для переплета 120 г/м.2
Количество переплетной бумаги для всего тиража: 472 · 120/1000000 = 0,056
т.
Затраты на бумагу: 0,056 · 30000 = 1680 рублей.
Расходы на пленку.
Площадь пленки необходимый для одного экземпляра с учетом загибов: 2(15,3
· 25,2) + (1,8 · 25,2) = 816,48 см.2
Технические отходы: 816,48 · 0,05 = 40,82 см.2
Площадь пленки с учетом технических отходов: 816,48 + 40,82 = 857,3 см.2/экз.
Размеры одного рулона пленки: 70 см· 3500 см = 245000 см.2 =
24,5 м.2
Количество экземпляров на одном рулоне: 245000 см.2 /857,3 см.2/экз.
= 285 экз.
Количество рулонов пленки на тираж: 5000/285 = 18 рулонов.
Стоимость пленки для одностороннего ламинирования - 16 евро\рулон: 16 ·
35 = 560 рублей.
Затраты на пленку: 18 · 560 = 10080 рублей.
Расход картона: 5000/16 = 312,5 листов + 3,13(10% - технические отходы) =
315,6 = 316 листов на тираж.
Картон для переплета: плотность - 185 г/м.2; цена - 28000
руб./тонна.
Масса картона: 316(84 × 108/10000 · 185) = 316 ·
168,35 г = 53198,6/1000000 = 0,053 т.
Затраты на картон: 0,053 · 28000 = 1484 руб.
Расходы на форзац.
Бумага форзацная массой 120 г/м.2; цена за 1 т - 30000 руб.
Затраты на форзац: 1 бум. л. = 8 экз.; 5000/8 = 625 бум. л. + (5% техн.
отх.) = 625 + 31,25 = 656,25 бум. л. · (0,91 · 120) = 71662,5 г = 0,072 т ·
30000 = 2160 рублей.
Общая сумма за бумагу, пленку, картон и форзац: 1680 + 10080 + 1484 +
2160 = 15404 рублей.
Редакционные расходы
Редакционные расходы на 1 уч.-изд. лист по бизнес-плану издательства на
текущий год составляют 800 рублей.
Редакционные расходы: 16 ∙ 800 = 12800 рублей.
Расходы на переплетные материалы и типографские работы
По договору с типографией стоимость типографских работ на один экземпляр
книжного блока составляет 25 рублей, за один экземпляр переплета - 12 рублей.
Типографские расходы на весь тираж: 37 · 5000 = 185000 рублей.
Расходы на переплетные материалы и типографские услуги: 15404 + 185000 =
200404 рублей.
Общеиздательские расходы
Общеиздательские расходы на 1 уч.-изд. лист по бизнес-плану издательства
на текущий год составляют 1600 рублей: 16 ∙ 1600 = 25600 рублей.
Общеиздательская себестоимость
Суммируем расходы на авторский гонорар художнику, редакционные расходы,
типографские расходы и бумагу, общеиздательские расходы: 20000 + 12800 + 200404
+ 25600 = 258804 рублей.
Коммерческие расходы
Коммерческие расходы принимают за 5% полной себестоимости: (258804/95) ·
5 = 13621 рублей.
Полная себестоимость
Суммируем расходы: редакционные, расходы на типографские работы, бумагу и
переплетные материалы, общеиздательские и коммерческие расходы: 258804 + 13621
= 272425 рублей.
Расчет прибыли
Себестоимость одного экземпляра составляет: 272425/5000 = 54 рублей/экз.
Рентабельность планируется в размере 25% полной себестоимости: 54 ∙
25/100 = 13 рублей/экз.
Таким образом, добавленная стоимость составляет: 54 + 13 = 67 рублей.
Отпускная цена
НДС составляет 10%, то сумма НДС на один экземпляр: 67 ∙ 10/100 =
6,7 рублей.
Отпускная цена одного экземпляра: 67 + 6,7 = 74 рубля.
Среди критиков Ф. М. Достоевского распространены
концепции, искажающие истинный смысл его творчества, философии.
Нам уже известно, какой трудный путь прошел Федор Михайлович,
как долгое время современники не признавали его таланта. В своем дипломе я
показала, как менялось отношение к Ф. М. Достоевскому на протяжении
десятилетий, как он становился то "нашим известным беллетристом", то
"учителем жизни" и кумиром восторженной молодежи, то объектом строго
научного изучения, то символом реакции и проповедником поповства и предателем
революционных идей, то глубочайшим поэтом-философом, то описателем жизни
петербургских трущоб, бытовиком. Все эти превращения, все эти метаморфозы
одного и того же образа, одного и того же лица, отражающегося в зеркале, - все
они часть нашей жизни, нашей культуры и истории, а потому уже заслуживают быть
извлеченными кто из хрестоматий и постоянно переиздающихся трудов, кто из
забвения и небытия. Это не его облик двоится, троится, множится в зеркале
нашего восприятия - это мы сами меняемся, растем, наблюдая (чаще всего
бессознательно) процесс собственного культурного, интеллектуального взросления
в огромном и до конца далеко не исчерпанном еще зеркале творчества Ф. М.
Достоевского. Изучая перемены его облика, мы всматриваемся в самих себя,
познаем себя в едином с историей самой России контексте времени.
Писатель на протяжении своей жизни искал красоту,
добро, истину, искал тот вечный идеал любви к Богу, человеку. Он хотел
соединить небесное и земное в человеке, Ф. М. Достоевский создает Богочеловека.
Ведь во всем его творчестве, он писал о страдающем народе, который страдал так
же как - Иисус Христос.
В произведениях Ф. М. Достоевского всегда стоит образ
Христа и является главным источником поэтики диалогизма в творчестве писателя.
Поэтические формы творчества Ф. М. Достоевского вылились из ощущения Христа
"народного" и "сердечного", по слову самого писателя. Герой
Ф. М. Достоевского стремится узреть образ Христа не телесным зрением, а, так
сказать, "очами духовными".
Актуальность темы христианства и образа Христа в науке
о Ф. М. Достоевском является признанной: "В прижизненной критике образ
Иисуса Христа в размышлениях и творчестве Ф. М. Достоевского не был осмыслен
сколько-нибудь серьёзно. Интерес к нему возник в религиозно-философской критике
конца XIX - начала XX веков. Но здесь внимание, главным образом, уделялось не
Христу Ф. М. Достоевского, а его христианству. Образ же Христа в романах Ф. М.
Достоевского не становился предметом специального исследования.
Сейчас наше поколение устало от потрясений, и все чаще приходит к тому, о
чем писал в своих произведениях Федор Михайлович - через духовное совершенство
мы познаем истину, а истина состоит в любви. Свой идеал Ф. М. Достоевский видел
в народе. Народ для него - носитель идеала прежде всего потому, что он твёрд в
критериях добра и зла. "Мы должны, - писал он, - преклониться перед
народом и ждать от него всего, и мысли, и образа; преклониться пред правдой и
признать ее за правду, даже в том случае, если она вышла бы отчасти из
Четьи-Минеи…" [18, 140].
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Баршт К. Рисунки в рукописях
Достоевского. СПб., Фомика, 1996.
. Кулешов В. И. Натуральная школа в
русской литературе XIX века. М.,
1965.
. Белинский В. Г. Петербургский
сборник. 1846 года // Отечественные записки, 1846, № 3.
. Русский инвалид, 1846, № 34.
. Пантеон и Репертуар, 1848, т. 2, №
4.
. Бельчиков И. Достоевский в
процессе петрашевцев. М., 1971.
. Белинский В. Г. Взгляд на русскую
литературу 1846 года // Современник, 1947, т. 1, № 1.
. Иллюстрация, 1846, т. 2, № 4, 26
января.
. Санкт-Петербургские ведомости,
1847, № 4.
. Белинский В. Г. Взгляд на русскую
литературу 1847 года // Современник, 1848, № 1.
. Добролюбов Н. А. Забитые люди //
Современник, 1861, № 9.
. Неделя, газета политическая и
литературная. 1866, № 5.
. Русский инвалид, 1867, № 63.
. Гласный суд, 1867, № 159.
. Писарев Д. Погибшие и погибающие //
Луч: Уч.-лит. сб., СПб., 1866, т. 1.
. Воскресный досуг, 1866, № 164.
. Достоевская А. Г. Воспоминания //
Правда, М., 1987.
. Елисеев Г. З. Русская литература.
1866.
. Страхов Н. Н. Достоевский.
Преступление и наказание // Отечественные записки, 1867.
. Голос. 1868. 16 фев. № 47. Без
подписи.
. Салтыков-Щедрин М. Е. Светлов, его
взгляды, характер и деятельность // Отечественные записки, 1871, № 4.
. Санкт-Петербургские ведомости,
1871, № 250.
. Ткачев П. Н. Больные люди // Собр.
соч. в 2-х тт. - М., 1975.
. Санкт-Петербургские ведомости,
1872, № 15.
. Бесы и бесенята в последней части
романа г. Достоевского // Русский мир, 1872, № 315.
. Киевский телеграф, 1875, № 19.
. Биржевые ведомости, 1875, № 35.
. Новости, 1879, № 125.
. Санкт-Петербургские ведомости,
1875, № 272.
. Правда (газета политическая, литературная,
коммерческая и справочная). Одесса, 1879, № 125.
. Новости, 1880, № 347.
. Антонович М. А.
Мистико-аскетический роман // Новое обозрение, 1881, № 3.
. Михайловский Н. К. Жестокий талант
// Отечественные записки, 1882, октябрь - ноябрь.
. Леонтьев К. Н. Наши новые
христиане. Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой. М., 1882.
. Соловьев В. С. Три речи в память
Достоевского. М., 1884.
. Анненский Ин. Речь о Достоевском.
1883 // Анненский Ин. Книги отражений. М.: Наука, 1979.
. Бердяев Н. А. Истоки и смысл
русского коммунизма. М., 1990.
. Пойман А. История русского
символизма. ML, 2000.
. Бердяев Н. А. Русская религиозная
мысль и революция / Цит. по кн.: Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел:
Материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 4. М., 2000.
. Бердяев Н. Откровение о человеке в
творчестве Достоевского // Он же. Философия творчества, культуры, искусства: В
2 т. М., 1994. Т. 2.
. Иванов Вяч. Достоевский и
роман-трагедия // Русская мысль, 1914, май.
. Мережковский Д. Вечные спутники.
СПб., 1899.
. Достоевский Ф. М. Полн. Собр. соч.
Л., 1984. Т. 27.
. Из писем К. Леонтьева к В.
Розанову. 8 мая 1891.
. Розанов В. О Достоевском // Полное
собр. соч. Ф.М.Достоевского. СПб, 1894.
. Мережковский Д. Толстой и
Достоевский. Жизнь, творчество и религия // Мир искусства, 1900 - 1902.
. Булгаков С. Иван Карамазов в романе
Достоевского "Братья Карамазовы" как философский тип. М., 1902.
. Шестов Л. Достоевский и Ницше
(Философия трагедии). СПб., 1903.
. Анненский Ин. Достоевский. Казань,
1905.
. Белый А. Ибсен и Достоевский //
Весы, 1905, № 1.
. Белый А. Трагедия творчества:
Достоевский и Толстой. М.: Мусагет, 1911.
. Блок А. Безвременье // Золотое
Руно, 1906, № 11 - 12.
. Мережковский Д. Пророк русской
революции // Весы, 1906, февраль - март.
. Бердяев Н. Откровение о человеке в
творчестве Достоевского // Русская мысль, 1918, март - апрель.
. Иванов Вяч. Достоевский и
роман-трагедия // Он же. Родное и вселенское. М., 1994.
. Лобов Л. Достоевский и его
славянофильство. СПб., 1905.
. Переверзев В. Творчество
Достоевского. М., 1912, СПб., 1905.
. Горький М. О карамазовщине //
Русское слово, 1913, 22 сентября.
. Бальмонт К. О Достоевском //
Последние новости, Париж, 1921, 27 декабря.
. Струве П. Пророк русского духовного
возрождения // Русская мысль, София, 1921, кн. X - XII.
. Иванов Вяч. Достоевский и
роман-трагедия. М., 1994.
. Гроссман Л. Поэтика Достоевского.
М., 1925.
. Бахтин М. Проблемы поэтики
Достоевского. М., 1929.
. Луначарский А. Достоевский как
художник и как мыслитель. М., 1929.
, кн. 10.
. Виноградов В. Эволюция русского
натурализма. Л.; Academia, 1929.
. Покровский Г. Мученик
богоискательства. М., 1929.
68. Стандарты по издательскому делу. / Джиго А. А., Калинин С. Ю. 3-е изд.
М., Экономист, 2004.
69. Энциклопедия книжного дела. / Майсурадзе Ю. Ф., Мильчин А. Э., Гаврилов
Э. П. М., Юристъ, 1998.
70. Как издать книгу: Советы. Нормативы. Справки. Адреса / И. Г. Андреева,
Н. М. Белогородецкая, B. C. Дубровин и др.; Руководитель авт. Коллектива Ю. Ф.
Майсурадзе; Общ. ред. А. Э. Мильчин. - М.: Прогресс - Кн. Дело, 1994.-392 с:
ил.
71. Маркус В. А. Нормативные материалы по издательскому делу. Справочник. -
М: Книга, 1987. - 480 с.